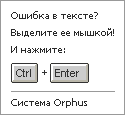Pinhead: Рассказки
Опубликовал: Pinhead | рубрики: Новости, Проза, Творчество |Автор: Pinhead
- * (без названия)
- Сон в руку
- RETURN TO INNOCENCE
- Пропавшая в октябре
- С той стороны
- Прекрасное далеко
- Алиса и ангел
- Живой
———————-
Я закрываю дверь кабинета по привычке мягко, словно прикладывая створку к проему. Мерзкая привычка – хлопать дверями! Как будто выражение «выбить дурь». Выбейте дурь из этого говнюка!
Секретарша не удостаивает меня вниманием. Да и с чего бы? Но я чувствую спиной, как она бросает мне вслед недоуменный взгляд. Я не похож на обычных визитеров. Но через несколько секунд, после того как я закрою вторую дверь, она забудет обо мне так же прочно, как прочен авторитет ее шефа.
Он похож своей формой на грушу. Глубоко укорененный в своем кожаном кресле. «Каменная задница». Так выражались, в свое время, про Молотова, но этому до Молотова далеко. Слишком аляповат галстук, слишком потные залысины, слишком банален взгляд маленьких свиных глазок. Как я был с ним вежлив! Даже подобострастен. По началу. Я всегда таков в начале. Надо дать человеку шанс. Это мой жизненный принцип. Возможно, ты ошибаешься, возможно, произойдет чудо, и «винтик» закрутится самостоятельно. Можно назвать это идеализмом. Я так не считаю. Иногда кто-нибудь из них вспоминает про свои обязательства. Правда, редко.
С такими, как я, такие, как он, обычно общаются не слишком-то любезно. Но я предоставляю им это удовольствие в начале разговора. Я смотрю глазами просителя и говорю тихо и неровно. Потом я бросаю намек. Всего один слабый маленький намек, словно шелест листьев в набежавшем ветерке. Но они понимают. Они сразу понимают. И это может означать только одно – что они всегда ждут, когда кто-нибудь скажет эти слова. Ждут подсознательно, подозревая каждого, даже такого, как я. Бывает, я позволяю себе поиграть с ними. Сделать вид, что я не говорил ничего такого. А потом, после минутного облегчения, огорошить снова, теперь уже явно и в лоб. После этого обычно начинается торг…
Впрочем, слишком много внимания моей работе. Мои «разруливания» всяких разных проблем не стоят того, чтобы заострять на них взгляд. Чей бы-то ни было.
Я спускаюсь по широкой лестнице и не спеша прохожу мимо охранника у дверей внизу. Я бросаю ему «до свидания», и это – лучший способ не выделяться из толпы. Он кивает и смотрит мимо меня осоловевшим взглядом, бормоча что-то, больше похожее на «свдвс».
Ступеньки у подъезда учреждения переходят в небольшую очищенную от грязи площадку, позволяющую добраться без потерь всего лишь до служебных и личных авто. Я гляжу по сторонам. Черт бы побрал гребаную весну! Всё, на что она способна – хорошенько нагадить прямо себе под ноги! Воздух словно дышит заразой. При каждом вздохе ощущаешь, как в тебя входит новая порция. Неведомое, не выделенное пока наукой вещество, называемое запахом весны. Внизу смесь из недотаявшего снега, черного, словно покрытого смолой, и хлюпающей грязи особенного, весеннего сорта, обладающего неизменной прилипчивостью. Автолюбители расчехляют машины и начинают бороздить просторы глубоких луж, отчего снежные валки по бокам дороги забрызганы аж до самых стен домов. Деревья неопрятны. Они бурлят изнутри. Они почти живые в апреле. От этого становится не по себе. Как будто оживает нечто совсем совсем не долженствующее оживать.
Я бреду к метро. Мне не нужна машина. Вся моя работа заключена в центральной части города. Да, я там не живу, но метро всё равно быстрее. Мой плащ наверняка сзади весь в отмеинах грязи, которая на черном фоне вдруг начинает как назло быстро светлеть, засыхая. Но я всё равно не люблю автомобили. Наверное, в современном городе нет ничего более уродливого, чем эти кучи промасленного металлолома.
В метро чувствуешь себя, как нога в тесном ботинке. Удушливо и тоскливо. Вагоны сначала раздражают своим визжанием, пока подъезжают к платформе, потом встречают толпой темного оттенка, насыщенной усталой злобой на городские транспортные удобства. Каждый знает, что окружающие так же страдают, как и он, но кто из людей считает чужие страдания равными своим?
Я вливаюсь в толпу, на время поневоле становлюсь ее частью. Лучше совсем растворится, чтобы раздражение не ело изнутри, катаясь по нервам. Я словно повисаю в коричневом пространстве, отключаюсь, закрывая глаза, терпение мое подобно гибкому стержню. Опираюсь на него и провожу одни из самых неприятных минут на дню.
Потом пересадка, выскакиваю из вагона, как пробка из бутылки, несусь по мраморным, гранитным коридорам. «В переходах подземных станций…» – выплывает в голове старая песенка. «Арбатская» встречает в очередной раз ощущением монументального величия. Одного конца станции не видно из другого. Топчу, топчу гранит, уверенно, по центру зала. Эскалатор ближе, ближе, наконец залезаю на него и хмуро уставляюсь в спину впереди себя, стараясь не задевать рукавом скользящую рядом полоску пластика. Сверху звенит летящая мелочь. Лучше бы кинули стодолларовую бумажку. Было бы веселее наблюдать со стороны.
Вот я и снова на улице. Пустые лотки продавщиц хот-догов. Будний день, три часа, народу маловато для бойкой торговли. Шлепаю по асфальту. Тысячи подошв делают эти тротуары чистыми даже весной. Двигаюсь по Калининскому (черта с два меня заставят говорить Новый Арбат!), понемногу проветриваю голову. Хорошо сложившийся день сегодня. Если бы еще сейчас в книжном повезло…
«Книжный мир». Большой бестолковый магазин. Каждая продавщица перед своим компьютером. Но найти всё равно ничего невозможно. Хорошо еще, что то, что я ищу, всегда в од-ном и том же месте. Прохожу в детский отдел через турникеты. Каждый раз, когда приходится это делать, ловлю себя на мысли, что постоянно жду – ну, вот-вот сработают. Я, наверное, преступник по натуре. Законопослушания во мне нет и в помине. С чего бы это?
Одинаковые книжки с огромным, в пол-обложки именем сверху. Вот и они. Копаюсь. Перекладываю, стремительно перелистываю страницы. Нет. Нет. Нет. Ничего нового. А! Вот она. Стоит торцом, сразу не разглядишь. Одна осталась. Хватаю с жадностью золотоискателя. Наверное, если посмотреть со стороны – у меня сейчас горят глаза. Куда девается всё рабочее притворство! Новая, только месяц назад написанная. Что-то нам поведается в этот раз? Положительно, сегодня удачный день.
У кассы бережно лезу во внутренний карман, потому что в плаще остался всего лишь завалявшийся червонец и мелочь. Рука касается холодного металла беретты. Задвигаю ее плотнее внутрь. С победным видом опускаю книжку в пакет и шествую мимо охранника у турникета, как человек, выполнивший свой главный жизненный долг. Теперь и весна нипочем!
К концу поездки народу поубавляется, и мне удается прислониться к блестящему поручню рядом с входными дверями. Усталые ноги получают некоторое отдохновение. Лезу в пакет. Сначала надо изучить рисуночки. Улыбка рвется наружу. Стараюсь сдерживаться. Ни к чему это. Взрослый господин с детской книжечкой, улыбающийся светлой улыбкой – это, пожалуй, слишком для московского метро!
«…конечная. Просьба освободить вагоны». Освобождаю. Все дружно несутся к узким лестницам. Снова попадаю в толпу, выливаюсь вместе с ней в подземный переход. Теперь старась двигаться быстро, огибая бабок, торгующих всяким барахлом у стен перехода. Сверху грохочет электричка. Проскакиваю мимо турникетчиков, размахивая левой «ксивой». Ехать всего две остановки, но пробежаться за отходящей электричкой – дело святое! В вагоне не удерживаюсь и достаю книжку снова. Картинки, как всегда, соответствуют содержанию.
Когда я вваливаюсь в квартиру, то туалет сразу же гостеприимно принимает меня прямо в плаще и ботинках. Это такое счастье – иметь иногда возможность получить удовольствие даже от такого скромного удовлетворения собственных потребностей! Хотя следовало бы сделать это еще в Управлении. Тогда не пришлось бы последний отрезок пути преодолевать едва ли не бегом.
Бросаю плащ на вешалку. Он мешком падает на натоптанный мною же пол. Металлическая цепочка в который раз повисает, выскочив из звена. Ругаюсь коротко, но увесисто. И вешаю плащ на воротник. В комнате первым делом извлекаю из пакета ананасовый сок, купленный по дороге, и жадно пью большими глотками. Кажется, нормальное дыхание восстановлено. Теперь только скинуть костюм, и можно начинать жить.
Бросаю беретту на диван. Давно бы надо от нее избавиться. Достать себе другое оружие. Всякий раз от мысли, что я сделал ею тринадцать месяцев назад меня бросает в ледяной пот. Но что-то постоянно меня удерживает. Я, пожалуй, понимаю – что. Это своего рода внутренняя епитимья – наказание за содеянное. Мучайся вот с ней теперь!
Надо бы ее почистить… Сегодня среда. Знающие люди говорят, что чистить оружие следу-ет каждый день. Но меня на такое никогда не хватало. Раз в неделю – не чаще. А! Завтра почищу. Сегодня день новой книжки. Ничего не должно отвлекать меня от этого наслаждения. Тем более, всякие мерзкие воспоминания.
Сажусь на диван, прямо напротив фотографии и кладу книжку на колени. Фотография существует сейчас только, как цветное пятно в моих близоруких глазах. Водружаю очки и впиваюсь взглядом в картонный прямоугольник. В который раз. Интересно, если сложить всё то время, которое я смотрел в него, сколько выйдет в общей сложности? Неделя? Может, больше? Похож на поляроидный снимок, только крупнее. Немного, но крупнее.
Два человека, выхваченные вспышкой из темного заснеженного пространства переулка. Два совсем еще молодых человека. Два подростка. Девочка и мальчик лет по тринадцати. Она в белой шубке из песца, он в теплой синей куртке с капюшоном. Оба без головных уборов, смеющиеся, похожие на брата с сестрой.
Однако сколько уж можно, в конце концов? Я уже и так наизусть знаю каждую точку на этой фотографии. Особенно после того, как отсканировал. Пора приступать к новой книжке.
…
Два часа. Два часа и обложка закрывается. Отправляйся на полку к шестнадцати своим предшественницам. Автор, как всегда, в своем репертуаре. Первое впечатление, как от пародии. Посмеялись, порадовались за героиню, поскучали над сюжетом – и всё. Наслаждение закончено. А зацепки я буду искать позже. Когда будет подходящее время. Пора снова заняться работой.
Нажимаю большим пальцем правой ноги на кнопку «пилота» под столом. Вентиляторы начинают шуметь, и компьютер оживает. Несколько заставок, составленных из «шкатулки Лемаршана» великого и ужасного Баркера. Черный экран передо мной с вращающейся шкатулкой посередине. Запускаю «Ворд», и пошло-поехало! Официальные письма. Параллельно включаю музыку и на фоне группы «STOA» погружаюсь в работу. Сижу до восьми вечера. Прерываясь только на «покушать».
Наконец, мне это надоедает. Бросаю, выключаю «Ворд» и снова смотрю на фотографию. Наверное, мне это никогда не надоест. Впрочем, не так уж много времени прошло. Всего каких-то три месяца. И это – единственное реальное доказательство, в конце-то концов! Если не считать старых писем в девяносто первом.
Звонок телефона. Поднимаю трубку, звонит Катерина. Начинает жаловаться на жизнь. Поддакиваю. Возражать или наставлять ее бесполезно. Просто пропустит мимо ушей. Выслушиваю ее в течение пятидесяти минут. Удивительная женщина! Действительно считает, что в ее проблемах виновато всё, кроме нее самой. Обычно женщины слушают мои советы. Эта – нет. Ну и ладно. «Пусть спасет лишь того, кого можно спасти…»
Через пять минут телефон опять трезвонит. На этот раз хороший звонок, нужный. Мой друг. Я жду от него вестей. Сразу орет, что до меня не дозвониться, что скоро меня будет еще трудней достать, чем его. Ну, это он явно преувеличивает. Мне до его недоступности далеко! Он у нас депутат. Правой ориентации. Сколько мы с ним, либералом, ругались в свое время, трудно описать! Сейчас это всё давно позади. Он не кидает камни в монархии, я не заикаюсь о «дерьмократах». Он наивен в своей слепой вере в западные ценности, но это не отбирает у него изрядной доли здорового цинизма.
Сперва говорим о всякой ерунде. Это – как ритуал. Глупый и привязчивый. Но никуда от него не уйти. Наконец, он первый не выдерживает. Спрашивает, собираюсь ли я выполнить наш давешний уговор. Значит хорошие новости. Подтверждаю ему нерушимость собственного слова. Тогда и у него вроде бы как всё в порядке. Он договорился на счет экспертизы. Это ему стоило некоторых усилий, конечно, но всё же не таких весомых, как то, что он получит взамен.
Я попросил его недели две назад найти возможность сделать экспертизу фотографии. Ему это гораздо проще с его удостоверением. Он, как обычно, сослался на занятость, но я ударил его в самое слабое место. Он коллекционер, собирает автомобильные модельки. У него их штук пятьсот уже, если я не ошибаюсь. Он их даже через Интернет умудряется заказывать из других стран. А у меня на шкафу стоит «Порш-356В» шестьдесят второго года. И изготовленный не какой-то там паршивой «Бураго» и даже не «Матчбокс». А самый настоящий «Поттер». Такая штучка даже в клубе долларов на четыреста потянет. Мой друг давно на нее глаз положил. Но мне-то она задаром досталась, в подарок получил, потому и не хотел расставаться. А тут решил пожертвовать. Продам, говорю, взамен на договоренность об экспертизе. Так бы отдал, да он – человек богатый, прирабатывает на продаже информации, заплатит!
Что ж, новости действительно неплохие! Наконец-то у меня будет хоть кое-что. Тогда я смогу кое-кому это кое-что предъявить. Может этому кое-кому и удастся отвертеться, но я так не думаю!
Я снова беру фотографию в руки и всматриваюсь в один из переулков позади ГУМа. Три месяца назад. В новый год. В новый, двухтысячный год!
Мы шли с Ольгой от Лубянки к Красной площади и оба были очень навеселе! Я от водки, а она – скорее от ощущения праздника, чем от шампанского. Навеселе и веселые – дальше некуда. Время было без четверти двенадцать, народ валил валом, большинство – сильно похожие на нас. Непрерывные взрывы китайской пиротехники уже превратились в некий фон для общего гула громкой речи подвыпивших людей. Иногда сквозь него диссонансом прорывался визгливый выкрик какой-нибудь совсем уж пьяной девицы. Народ тащил бутылки с шампанским и особо крупные «ракетные заряды» на главную площадь страны.
Ольга была одержима идеей хорошенько извалять меня в сугробе побольше. Но из-за почти полного отсутствия оных на улице Никольской, ей пришлось довольствоваться обычным обкидыванием меня снежками. Погода была очень неплоха, и занятие это превращалось скорее в удовольствие. Мы уже почти дошли до ГУМа, когда я услышал имя «Алиса» в двух шагах слева от меня. Разумеется, меня это нимало не удивило. В определенный период у нас появилось полно Алис. Но имя это оказывает на меня моментальное воздействие, независимо от того, кому оно принадлежит. Как будто срабатывает некий механизм. Я тут же настораживаюсь. Я повернул голову и бросил обычный взгляд, окидывая им толпу. Я ожидал, что немедленно отвернусь. Так, просто любопытство и всё.
Ничего особенного я и не увидел. У меня зрение – четыре диоптрии. Просто двух подростков. Практически со спины. Я отвернулся бы, если бы они молчали. Но они говорили. И то, что они говорили, заставило меня не только целиком обратиться в слух и полезть в карман за очками, но моментально протрезветь. Я это четко запомнил. В голове вдруг настала чистая, звенящая тишина, и я неожиданно почувствовал, как замерзаю. Парень сказал весело: «Кажется, я наконец проникаюсь общей атмосферой. Трудновато после нашей жары». Девчонка ответила: «Ты прав, Паша. Мне этого как раз и не хватало. Почему у нас люди так не веселятся?» «Где ж это ты видела в нашей Москве такую толпу пьяниц одновременно?!» Эта последняя фраза была произнесена парнем так задорно и с такой иронией, что они оба принялись хохотать.
Казалось бы, ничего особенного. Но, если вдуматься…
Я напялил очки и смотрел на хохочущих так, что со стороны производил, наверное, человека, увидевшего привидение. Я почувствовал, что мне, наконец, повезло. Именно мне. Признаться, я верил, что заслужил это. Кто, кроме меня мог заслужить это больше?! Я всю свою жизнь ждал чего-нибудь подобного. Даже пытался что-то сделать, как-то приблизить… Я ощущал, как Москва пропала. И двухтысячный тоже пропал. Всё, всё пропало вокруг. Я глубоко дышал зимним воздухом, ел его, проглатывая огромными кусками и весь сфокусировался, подобно линзе, на двоих из толпы. Идущих в толпе, принадлежащих ей и не принадлежащих одновременно, отделенных, словно цветы от корней. Я забыл обо всем… И получил снежком по затылку.
Представьте себе мое состояние. Это было страшно неожиданно! Ольга была рядом со мной, но я уже был не с ней. Я ничего уже не хотел, кроме того, чтобы следовать за этой странной парой и ловить всё. ВСЁ! Мой рассудок и мое тело больше мне не принадлежали. Я повернулся и, взглянув в ее смеющееся лицо с тонкими чертами, рявкнул что-то абсолютно невразумительное. Я был так взбешен на то, что меня оторвали от наблюдения, что даже не смог найти хоть какие-то слова. Она всё еще была пьяна. Она не понимала. Схватила меня за рукав и принялась раскачивать. В это время парочка отошла от меня достаточно далеко. Я яростно рванулся вперед, увидел мелькающую белую шубку среди толпы, золотые волосы и принялся быстро пробираться в том направлении. Ольга, наверное, подумала, что я решил поиграть с ней. Отголоском сознания я услышал, как она засмеялась, выкрикнула что-то и бросилась за мной.
Она догнала меня, когда я приблизился к моим «призракам» достаточно близко и уже начал разбирать их голоса. Мы уже почти прошли ГУМ, и Красная расступалась впереди, открывая невероятную толпу, над которой то тут, то там взлетали разнообразные предметы. От пробок шампанского, до шапок и даже бутылок. Ольга прыгнула, упершись ладонями мне в плечи, моя нога заскользила, и я грохнулся на спину. Ее мечта исполнилась, она всё-таки смогла хорошо меня извалять. Но вот то, что произошло дальше, она вряд ли предвидела.
Я вскочил, как подброшенная пружина. Моя шапка валялась на льду мостовой, я забыл про нее напрочь. Меня трясло от бешенства. Я выдохнул несколько матерных слов, потому что сорвалось дыхание, и их она еще не услышала. Но вот потом!.. Потом я обрушил на Ольгу весь словарный запас. Девушку, которая в своей жизни не произнесла ничего резче слова «кретин». Лейтмотивом моей речи было: «Отвяжись от меня!»
Будь она трезвой, она бы немедленно убежала в слезах. Но она была навеселе, ее мозг реагировал не так быстро. Она просто еще не могла поверить в случившееся. Она купалась в новогодней атмосфере, она была счастлива, она строила планы на праздники. Минуту назад я тоже был совершенно счастлив. Возможно, она уверяла себя, что ей показалось. Я просто не мог так себя вести. Я никогда так себя не вел. Никогда за два года нашего знакомства.
Она протянула ко мне руки. Ее жест был буквально умоляющим, в глазах уже застыли слезы. Она как будто хотела сказать: «Подтверди, что мне просто показалось». Но этим она взбесила меня еще больше. Я думал только об одном. ОНИ уходят! Я упускаю их! Я оттеснил ее к стене дома и снова выкрикнул, чтобы она отвязалась от меня. И повернулся, чтобы бежать за ними. Она отчаянно крикнула что-то вроде: «Что с тобой?» и схватила за плечо. Тогда я снова начал ругаться и — о, господь милосердный! – я ударил ее! Ольгу, которой я целовал ноги и твердил, что умру без нее. Кулаком в грудь. Она отлетела к стене и села на снег. Ее черные волосы рассыпались по плечам. Я повернулся и побежал.
Но было поздно. Парочка уже вошла на площадь. На эту чертову площадь, где народу было, как сельдей в бочке. Я еще метался среди толпы, силясь увидеть белоснежный мех песца и золотые локоны. Но уже не верил, что смогу их найти. Слишком, слишком поздно! И в этот момент начали бить куранты.
Это был самый странный новый год из всех, что я встречал и, наверное, встречу. Я поднял лицо к небу и закричал. Мой крик потонул в восторженном вопле тысяч глоток и взрывах петард. По моим щекам текли слезы. Слезы самой горькой в жизни обиды и самой большой радости одновременно. Теперь я точно знал! Больше не было глупых сомнений. Она сейчас стоит вместе со мной на этой же площади, в этой же толпе и так же кричит от восторга вместе со всеми. Самое прекрасное и совершенное существо ВСЕХ времен! Мы с ней в этот момент олицетворяли своеобразный мост. Между нашими мирами, между нынешним и грядущим. Потому что только мы знали об этом. Она – со своей стороны моста, я – со своей. В миг, соединяющий наши столетия. А я ведь ее даже толком-то не разглядел!
Что дальше? Как фотография оказалась в моих руках? Трудно в это поверить, но, наверное, в эту чудесную ночь некоторые вещи случались, скорее, вопреки всему, нежели благодаря.
Как только в моей душе прошел этот странный экстаз, соединение страдания и блаженства одновременно, площадь и толпа на ней мне тут же опротивела. Я выбрался из толпы и, совершенно потерянный, побрел по Ильинке в сторону Китай-города. Надо сказать, что Москва – часто совершенно поразительный город! Контрасты на каждом шагу. Это относится и к людности. Здесь полно мест, где, свернув с проспекта, запруженного народом, внезапно попадаешь на совершенно безлюдную улицу. Казалось бы, сердце столицы, новый год, люди отмечают три нуля в дате, невероятная толпа. Но, пройдя по Ильинке всего каких-то метров сто, я вдруг обнаружил, что совершенно один. Слева и справа возвышались здания конца прошлого века, когда-то жилые, а теперь абсолютно темные и умершие на время праздников. В каждом подъезде размещались офисы и отделения кампаний. Нельзя сказать, что я был не рад. Наоборот, моя пустая голова не будоражилась ненужными впечатлениями. Удовлетворенный этим, весь в своих переживаниях, я медленно брел по заснеженной улице мимо фонарей, разливающих белесый свет. Сегодня свершилось нечто, позволившее мне, наконец, слегка успокоиться. Пусть я упустил возможность приблизиться к тайне, но уже один факт ее физического существования согревал меня, как ничто до этого. Я смаковал это ощущение внутри себя, перекатывал его, мусолил как жвачку, снова и снова переживая немногие секунды приближения к запретному. Пока не был вырван из этого состояния чьим-то громким смехом из-за угла переулка.
Я был раздосадован. Должно быть, какая-то парочка всё-таки забрела и в этот тихий уголок. Люди – как они мне надоели с их отвратительной привычкой лезть везде, оказываться в самых неожиданных местах, мешать одним своим присутствием! Неужели и эта прогулка будет испорчена какими-нибудь подвыпившими приезжими?
Интересно, почему это я решил, что они приезжие? Да потому, что речь была хоть и чистой, но не совсем похожей на обычную. «Должно быть, питерцы», — решил я про себя и поравнялся с перекрестком.
Я не хотел даже смотреть на них. Но всё-таки посмотрел. Из любопытства. Бросил легкий взгляд в их сторону. Очки еще оставались на моих глазах. Я их немедленно узнал. Всё мое существо тут же охватила волна такого волнения, словно я почувствовал себя актером перед первым выходом на сцену. Но я прошел дальше на деревянных ногах. Миновал перекресток. По инерции. И не только поэтому. Еще и из моей проклятой деликатности. Не могу я глазеть на людей! Даже на этих. Прошел и тут же остановился. Я не знал, что мне делать. Мысли бежали стремительной волной, еще быстрее, чем на работе в самой сложной ситуации. Тысячи вариантов возможных действий проскочили передо мной за несколько секунд. До этого я даже не подозревал, насколько плодовит может быть мозг. Мое дыхание почти остановилось, глаза раскрылись в два раза шире, чем обычно, и я постоянно чувствовал, что время стремительно ускользает. В толпе я легко мог проследить за ними. Подойти я хоть вплотную, они бы меня не замечали. Но что мне делать теперь, в этих безлюдных переулках? А что если где-то здесь и расположена Машина? Что если они идут прямо к ней? Хотя они, вроде бы, никуда не шли. Просто стояли посередине улицы и, смеясь доставали что-то из сумки.
Когда я услышал топот ног за углом переулка, меня охватила паника. Я развернулся и медленно пошел дальше. И услышал сзади запыхавшийся голос: «Как хорошо, что я вас догнал». Я обернулся. Мальчишка стоял передо мной и смотрел на меня с радостной улыбкой.
Признаться, я сперва не поверил его радости. Так уж я устроен, что не жду приятной реакции на себя любимого. Поэтому всё время ищу подвоха.
Он был высок для своего возраста, но не слишком. Одет в самую обычную зимнюю теплую куртку синего цвета с откинутым назад капюшоном и самые обычные черные джинсы. Всё это сидело на нем слегка мешковато. Из чего я заключил, что он худ. Впрочем, узкий подбородок и острые скулы говорили о том же. Что-то мне не верилось, что он специально надел одежду на два размера больше, как сейчас носят подростки. Не тот был покрой. Его короткие волосы топорщились на макушке забавным хохолком. «Наверняка с утра никак не может его уложить», — подумал я с усмешкой. Выражение его овального лица было задиристым, хитроватым, но, одновременно, необыкновенно мягким. Просто удивительно мягким! «Подвести бы глаза, подкрасить губы, надеть парик на голову – будет вылитая девчонка», — решил я. Интересно, говорил ему кто-нибудь об этом?
«В чем дело?» — спросил я медленно. Язык не очень мне повиновался.
«Вы не могли бы нам помочь? А то мы забрели в эту пустотень, и некого попросить. Хорошо, что встретили хотя бы вас».
Меня резанула эта его «пустотень», но я не подал виду, а сиронизировал:
«Хотя бы меня! Хм, попытаюсь хоть на что-то сгодиться».
Не знаю, как меня в такой момент хватило на иронию, но мальчишка вдруг страшно смутился.
«Простите! Я не имел в виду, то, что вы хотели сказать».
«Перестань! – оборвал я его. – Чем тебе помочь?»
«Вы не могли бы нас сфотографировать?»
«Всего-то? – прищурился я. — Ну, на такое даже моих скромных усилий хватит».
Я завернул за угол вслед за ним. Она стояла буквально в нескольких шагах. Наверное, подошла, не дождавшись друга. Судя по тому, какой взгляд она на него бросила, я понял, что она слышала наш короткий диалог. Осуждает!
Я не смог удержаться от того, чтобы не впиться в ее лицо без всяких следов косметики своими горящими глазами. Она была такая, как я и ожидал. И, вместе с тем, абсолютно не такая. Я никогда не мог увидеть ее в своем воображении. Все мои попытки представить ее лицо оканчивались полным крахом. Я только всегда чувствовал ее на уровне какого-то тепла, словно расходящегося от нее волнами. Блаженного тепла, как от июньского солнца. Может быть еще на уровне осязания. Как что-то удивительно светлое и чистое, прикосновение к которому вызывает воспоминания раннего-раннего детства. Словом, я всю свою жизнь представлял себе Алису так, приблизительно, как это делает слепой. И тут я увидел ее глазами.
Я не ошибался в своих чувствах. От нее действительно исходило такое сильное ощущение обволакивающей душу доброты, что не хотелось покидать ее ни на секунду. Но ее внешность была мне абсолютно не знакома. Я никогда, ни в каких своих снах или видениях не видел ни этих голубых, широко распахнутых глаз с длинными ресницами и пытливым взором, ни маленького аккуратного носика, ни пухлых, алых от мороза губ, в данный момент, упрекающе поджатых. Не видел я и не представлял себе, с какой быстротой меняется выражение на этом милом лице, полном внутреннего света. Так, будто она успевала заметить сразу всё вокруг. И своего виновато улыбающегося друга, и худого незнакомца в длинном черном пальто рядом с ним, с нелепыми очками на узком лице, и тишь пустого московского переулка, заполненного бледным мертвенным светом фонарей, и морозную замечательную ночь, которая потом будет вспоминаться еще долго, как странная картинка странного мира.
Она была ростом почти со своего друга, а ее золотистые волосы, похоже, были так же непослушны, как и у него. Вот и сейчас тщательно причесанные локоны рассыпались свободными волнами, колышась под легким ветерком. Легкая белоснежная шубка с пышным воротником выглядела сшитой точно по фигуре, и туго затянутый пояс выдавал осиную талию девочки. Она слегка переминалась с ноги на ногу, пританцовывая в высоких зимних сапожках и держала в красной от мороза ладони маленькую коричневую сумку. В другой руке было что-то черное и угловатое. Она улыбнулась мне и сказала очень просто и открыто: «Спасибо, что согласились нам помочь».
Черт побери, я до сих слышу этот голос! Звонкий, но с легчайшим оттенком характера.
«Сперва научите меня на что нажимать, — предупредил я, — я ни фига не смыслю в фотоаппаратах».
Я слишком поздно сообразил, что моя фраза может их насторожить, но, похоже, они совершенно не обратили внимания на возможный ее смысл. Разумеется, ну как они могли даже подозревать, что я способен что-то знать о них?! Просто прохожий – и не более.
Они оба наперебой бросились мне объяснять. Уже тогда мне пришла в голову мысль… Поэтому я притворился полным тупицей. Я долго ничего не понимал в их объяснениях. И долго разглядывал аппарат. Похожий на обычный поляроид. Только гораздо меньше. Хотя, я действительно вообще не смыслю в фототехнике. Скорее всего, аппарат такой уже существовал. Чего только японцы не придумают. Пойди, угонись за их изобретениями! Только я не верил, что внутри у него то, что там положено быть.
Они взобрались на ступеньки перед каким-то парадным подъездом прямо напротив фонаря, при этом беспрерывно толкаясь и хохоча.
«Темновато, — сказал я на всякий случай, — вы уверены, что получится?»
«Не волнуйтесь! – закричал парень. – Просто нажмите кнопку». Вот тут я догадался, что моя затея провалится. Я не смогу тайком сделать второй кадр, как бы мне этого ни хотелось. Пока первая фотография не вылезет, следующую не сделаешь, а к тому времени будет поздно.
Они обняли друг друга за талию. У меня сердце защемило. Как же это было прекрасно, о, господи! Я пожирал глазами их фигуры под козырьком подъезда и ловил себя на мысли, что не видел в жизни ничего более восхитительного. Именно в тот момент я понял, что они действительно из другого мира. В самом полном смысле этого слова. Не знаю, может я чересчур эмоционален, но, клянусь, прекрасней зрелища, чем эти двое мне еще не приходилось видеть!
Сработала вспышка. Кадр полез почти сразу. «Еще?» – спросил я с тайной надеждой, но они уже бежали ко мне.
«Нет, достаточно, — сказала она, — мы и так слишком много нави… потратили кадров на свои незначительные персоны».
«Говори о себе, — с вызовом отозвался он, забирая у меня аппарат и пытаясь в бледном свете рассмотреть получившийся кадр, — моя персона очень даже значительна. Я бы сказал, грандиозна. Не примите за похвальбу, конечно», — улыбнулся он, обращаясь ко мне.
«Пашка, не выказывай своих прекрасных качеств хотя бы в гостях!» – воскликнула она со смехом.
«В гостях? – как бы удивился я. — Вы приезжие?»
«Приезжие, — живо отозвался он, не давая ей произнести ни слова, — решили встретить двухтысячный в столице».
«Ну и как вам столица?»
«Неплохо. Забавно немного, но, в целом, впечатления ожидаемые».
Я перестал осторожничать. Интересно, до какой степени откровенности они смогут дойти?
«Что, должно быть, пьяных слишком много?»
«Вы правы», — согласилась девочка, и я мысленно поздравил себя с победой.
«Что ж, извечная российская проблема! Всегда пили, всегда… будут пить».
«Наверное, все-таки, не всегда! – сказала она в ответ. – Да и раньше, в прошлом, тоже далеко не… Я имею в виду, восемнадцатый век, девятнадцатый».
«Я понимаю», — произнес я с иронией. Тут я понял, что перехожу границу и перевел разговор на кадр.
«Отлично вышло», — с улыбкой произнес он, протягивая мне картонный прямоугольник.
«Да, — согласился я, — хороший у вас аппарат».
«Китайский!» – сказал он с долей гордости, и только героическое усилие позволило мне не улыбнуться. С историей экономических отношений у него явно было плоховато.
«Знаете, — промолвил я, сдвинув брови, как бы в размышлениях, — если вы приезжие, то вам надо обязательно сфотографировать самый уродливый памятник в Москве».
«Зачем же нам самый уродливый памятник?» – удивилась она.
«Забавно», — пожал я плечами.
«Алиса! – воскликнул он. – Мы обязательно должны его увидеть! Подумай, все ценные достопримечательности есть в любой презе, а вот всякие разные архитектурные неудачи и курьезы не сохраняются. Снесут и больше не увидишь никогда. Вроде пирамиды в Лувре. Это же гораздо интереснее!»
А он не лишен здравого смысла – этот парень! Только вот горяч. Проговаривается.
«Павел! – воскликнула она строго. – Какой пирамиды? Она же еще стоит на своем месте?!»
«Ах, ну, да!» — замялся он, а я одновременно с ним произнес: «Еще?»
«Так что же это за памятник?» – обратилась она ко мне с излишним энтузиазмом в голосе.
«Я имею в виду «Петра», конечно. Церетелевского. Ну, помните Шевчука: «Раскорячился монумент у пластмассового дома…»?
Похоже, мне уже понравилось издеваться над ними. Они переглянулись и молча закивали.
«Ну, вот, пройдитесь по набережной вдоль стены и дальше. Его издалека видно. Посреди реки это чудо торчит. Да еще и подсвечивается».
Они тут же заспорили о том, стоит идти или не стоит. Вроде бы как, время у них кончалось.
Признаться, я затеял бодягу с этим «Петром» только по одной причине. Мне надо было, чтобы они забыли про фотографию, которая до сих пор находилась в моей руке. Но они не забыли. Вспомнила она. Я молча наблюдал, как фотография перекочевывает в ее карман.
«Хорошо, нам пора», — сказала она, запихивая аппарат в сумку.
Я был в такой эйфории от этой встречи, от разговора, что даже не почувствовал разочарования. Мне казалось, что я и так просто переполнен счастьем через край. Больше всё равно не влезло бы.
«Объясните еще раз, как туда пройти?» — спросил он.
«Пойдемте, я вам покажу».
Мы вышли из переулка снова на Ильинку, и я указал в сторону Кремля.
«Вернетесь по этой же улице на Красную площадь…»
Они смотрели за направлением моих жестов. Я стоял чуть сзади них, совсем близко и ощущал смесь запахов, оставленных шампунями на их волосах. Или что они там еще используют… Я ловил последние ощущения. Их кивки, смену выражений на их лицах, короткие фразы, улыбки. А потом я сделал вторую отвратительную вещь за эту ночь. Они были слишком увлечены моими объяснениями. Настолько, что я смог вытащить фотографию из ее кармана.
Честное слово, я ни за что не стал бы этого делать, если б у меня вышло по-другому! Но я не мог с ней расстаться. Ни за что не мог! Пускай я буду чувствовать себя последней свиньей, но я должен иметь хотя бы крошечную частичку от того мира, которого так яростно жаждал.
Потом я долго смотрел, как они уходят. Назад, к переполненной площади, бодрыми шагами уверенных и радостных людей. В это время пошел снег. Легкий и пушистый. Он так сильно им соответствовал, так подходил к этой пустой, ярко освещенной улице с темными домами по краям и двумя удаляющимися фигурками посередине, что у меня слезы выступили на глазах! Я вновь и вновь вспоминаю нашу встречу, и больше всего перед глазами именно эта картина, как будто перспектива улицы сходится не на Красной площади, а где-то в другом, чудесном мире, который лишь наполовину выдуман, а на другую половину настолько реален, что более осязаем, чем даже настоящее. И, может быть, еще ее взгляд, когда она сказала: «Спасибо, что согласились нам помочь».
Что меня удивляет – как я умудрился с тех пор никому об этом не разболтать?! Более того, я как-то ухитряюсь не забыть убирать фотографию при любых ко мне визитах. Может просто еще не пришло время? Впрочем, как только у меня будут результаты экспертизы, я уж свяжусь с теми из моих друзей, кто заинтересован, как и я, найти доказательства, подтверждающие наши догадки. Не знаю, что мы сделаем потом, но пойду я до конца. Пусть попробуют меня остановить!
Ладно, с воспоминаниями покончено! Пора вновь приступать к работе. Я должен успеть закончить письма до того момента, как пора будет выходить в Сеть. А под утро хорошо пишутся всякие рассказки. Представляю себе ее лицо, прочти она мои бредни! Наверное, подумала бы, что я не совсем здоров.
Эту ночь спать мне уже, наверное, не придется, но я надеюсь выспаться завтра после обеда.
———————-
Но если ты хочешь войти,
Как ты встретишь здесь тех, кто снял грим?
Здравствуй; меня зовут смерть.
БГ.
С тех пор, как личный сонотрон Алисы перешел в ее полное распоряжение, порядок в аккуратно тематически расставленных кассетах для него быстро нарушился. Она всегда превращала в беспорядочную кучу любые записи, касающиеся творчества. Как только дело доходило до музыки, кино или психоинсталляций, Алиса начинала почти с остервенением ковыряться среди колоссального выбора разных стилей и направлений, всякий раз пытаясь подобрать произведение, максимально соответствующее ее внутреннему состоянию на текущий момент. В этом она была полной копией собственной матери, поэтому все в доме смотрели сквозь пальцы на ее художества, когда музыкальные файлы попадали, например, в кухонный автомат.
С сонотроном через неделю произошла та же история. Домроботник пришел в ужас, обнаружив кассеты, сваленные в стенной нише, рядом с Алисиной кроватью. У него создалось впечатление, что перед сном Алиса тренировалась взбивать тесто. О чем он не преминул немедленно пожаловаться Алисиному отцу. И был сильно огорчен, увидев на лице профессора лишь философскую улыбку.
— Она пошла по стопам матери, — пробормотал робот, уползая в гостиную, — не удивлюсь, если теперь телестена начнет транслировать «Летние сны».
Конечно, он преувеличивал. «Сны» нельзя было вложить в компьютер. Это была такая штука, которую человеческий мозг переживал в одиночестве. По сути дела, сонотрон просто возбуждал в нем определенные участки, и мозг сам рождал в самом себе нужные картины. Это и было главным отличием сонотрона от тех же психоинсталляций, наводимых в мозг со стороны. Иначе человек не отдыхал бы во сне, а впитывал дополнительные переживания.
Поздним вечером четверга Алиса, покоясь в полуметре от пола на гравитационном матрасе, развлекалась тем, что жонглировала пятью сонотронными кассетами, подбрасывая их высоко к потолку. Она старалась изо всех сил, чтобы не уронить ни одну из них, потому что плоские кассеты плюхались на голый живот Алисы с порядочной высоты, что было не очень-то приятно. Она занималась этим увлекательным занятием минут десять, мысленно пытаясь за это время подобрать что-то из сновидений, что могло хотя бы слегка скрасить воспоминаниями ее завтрашний день, который она бы охотно вычеркнула из своей жизни. Завтра предстоял нудный разбор Алисиных знаний в таком абсолютно бесполезном для биолога школьном предмете, как история. Ну что заставило эти Ученые Советы включать историю в обязательный курс?! Какое дело Алисе до пыльного прошлого? Конечно, там были свои интересные моменты. Она сама в них участвовала несколько раз. Но это же, так – факультатив, не больше! Её-то, как ученого интересует в первую очередь будущее! А какой там король разбил кого при Бувине – это не Алисино дело! Филипп Август Иоанна Безземельного или наоборот. Зачем она вообще взяла эту тему о средневековой истории Европы?! Надеялась выехать на своем знакомстве с Ричардом Львиное Сердце? Их историка такими вещами не проймешь! Завтра он начнет нудным голосом внушать Алисе, что нельзя пренебрегать…
Кассета плюхнулась Алисе прямо на нос. От неожиданности она замерла. Тут же она поняла, что сейчас произойдет, и зажмурилась, тонко запищав от ужаса. Остальные кассеты посыпались на нее градом, приземляясь в самых неожиданных местах.
Губы Алисы скривились, и она чуть не расплакалась от досады. Весь мир был против неё! Часы показывали половину двенадцатого, она до сих пор не могла решить, что вставить в сонотрон, завтра она проснется не выспавшейся, с мутной головой… И вообще! Ей всё надоело! Сейчас она возьмет первую попавшуюся кассету… Ну, например, ту, что угодила ей в нос. А то вот-вот в дверях покажется домроботник и, подняв к небу свои манипуляторы, начнет причитать о том, что девочка себя убивает!
Кассета была без подписи. Даже без обозначения жанра. Не то, чтобы Алису это сильно удивило, у нее валялось с десяток кассет ее знакомых, которые не удосужились никак их обозначить. Скорее, стало любопытно.
«Что ж, появился хоть какой-то стимул заснуть», — подумала Алиса.
Мягкая горка сонотрона чавкнула, принимая кассета в себя и почти сразу засветилась изнутри оранжевым сиянием.
«Неопознанный жанр, — мягко пропел голос. — Предупреждение. Может содержать шокирующие сновидения».
Минут пять Алиса решала, стоит ли ей рисковать. На кассете могло оказаться всё, что угодно. От свободного парения под облаками до подвалов гестапо. Слишком различные вкусы были у ее друзей и знакомых. Ее одноклассник однажды синтезировал после уроков в школьной лаборатории кассету с походами римского легионера. Во сне во время осады одной из крепостей ему вылили на голову кипящее масло. Шок от происшедшего был столь силен, что когда он проснулся, то полностью ослеп, как будто бы всё произошло на самом деле. Конечно, ему восстановили зрение, но с тех пор Алиса остерегалась пользоваться самодельными кассетами.
Впрочем, казусы случались и с самыми, что ни на есть обычными «снами». Как-то раз Аркаша Сапожков, страстный любитель классической музыки, решил насладиться произведениями Густава Малера во сне. Конечно, он очень любил Малера, но после той ночи он не слушал его никогда в жизни. Более того, у него начиналась истерика, как только он слышал где-либо первые ноты «Песни о земле». Неизвестно на кого была рассчитана эта кассета, потому что Малер, без сомнения, хорош, но прослушать за раз ВСЕГО Малера – это было чересчур даже для Аркаши.
Однако сегодня у Алисы было авантюристическое настроение. Прищурив левый глаз и сжав губы в уверенную линию, она надавила на пульсирующий конус большим пальцем и, раскинув руки, едва заметно поплыла вверх, мысленно подправляя мощность поля под собой.
Сюрприз случился почти сразу. Никакого медленного, незаметного перехода от яви ко сну не было. Никакой колышущейся полудремы, скачков туда и обратно. Не было даже симптомов обычного сна – расслабления, замедления сознания, слипающихся глаз. Просто слабый свет из окна стал вдруг быстро тускнеть. Контуры комнаты всё более заволакивало полной тьмой, и Алиса почувствовала признаки беспокойства внутри себя. Она явственно ощущала, что вовсе не спит. Она отчетливо помнила момент перехода ко сну, она знала, что находится во сне – это был явный нонсенс, так просто не могло быть. Если только… Если только это не было предусмотрено создателем кассеты.
Тьма вокруг сгустилась уже совершенно. Алиса вдруг поняла, что абсолютно не хочет спать. Ей захотелось встать и закончить эту чудную игру. Но в этот самый момент она ощутила, что уже стоит. Давно стоит и смотрит вокруг себя, пытаясь увидеть хоть что-то в полной темноте. Одно она понимала точно. Если она сейчас сделает шаг, то ступит вовсе не на пол своей комнаты. Эта мысль сосредоточила ее внимание на единственном доступном ей сейчас чувстве осязания. Осязания поверхности под своими босыми подошвами. Ровной и пыльной поверхности. Это было всё.
Она присела и ощупала ладонями почву под ногами Кроме испачканных пылью рук это не дало ей никакой информации. Пока одна из ее ладоней не угодила в пустоту впереди. От неожиданности Алиса слабо вскрикнула и отпрянула назад. Ее голос утонул в пространстве мгновенно, так, как будто был им съеден. Она подумала, что несколько секунд до этого собиралась сделать шаг. Мысль о том, куда она могла угодить в результате такого шага почему-то заставила ее похолодеть.
Она встала и в этот момент начала понимать, что видит. Конечно, весьма и весьма приблизительно, на уровне, скорее, внутреннего восприятия, но какое-то движение впереди прослеживалось. Даже не движение. Нет, это было похоже на колыхание чего-то, напоминающего огромную структуру. Чем дольше Алиса вглядывалась, тем явственней наблюдалось некое бурление темноты далеко впереди. Это не было даже оттенками серого, скорее, своеобразные «разновидности» тьмы перемещались в хаотичном порядке вокруг, насколько хватало глаз. Только внизу под ногами абсолют темноты был совершенен. Алиса поняла, что стоит прямо на пороге ужасной бездны. Бездны, падение в которую может грозить чем-то неописуемо ужасным, похожим на кошмар младенца, родившего мертвым.
Алиса развернулась назад, отпрянув от этого ужаса, покрытая дрожью с головы до пяток. Теперь она безошибочно понимала, что никакой это не сон. Она не знала что это, и где она находится, но опасность, грозящую ей в этом месте ощущала явственно, даже не разумом, а древними инстинктами тела, вдруг до предела обострившимися и напряженными, как натянутые струны.
Свет, увиденный ею, так поразил ее своей неуместностью, что она застыла, словно статуя, уставившись на крошечную белую полоску впереди, очерчивающую прямоугольник, который не мог быть ни чем иным, как дверным проемом. Когда к Алисе вернулась способность мыслить, она заставила себя пойти вперед, не обращая внимания на холодок, гулявший по ее спине между лопаток от ощущения бездны сзади нее, своим присутствием пропитывающей всё пространство вокруг. Чем ближе она подходила к двери впереди себя, тем больше начинала понимать, что находится на круглой площадке почвы, словно бы утоптанной до идеально плоского состояния тысячами ног. Вокруг над ней тьма колыхалась подобно бурлящему мазуту, но при этом абсолютно беззвучно. А ниже был чудовищный провал, непостижимый для разума, но зато очень понятный для чувств. Он как будто отрицал всё существующее, с его бесконечными попытками утвердиться, но в результате лишь менявшим форму.
Чем больше Алиса приближалась к закрытому проему, тем сильнее надежда в ее душе сменялась на твердое осознание совершаемой ошибки. Что-то повторяло ей всё громогласней и громогласней о недопустимости собственных действий. Эту дверь нельзя было открывать ни за что, ни при каких обстоятельствах, никогда!
Она подошла вплотную и остановилась. Слабый ручеек света, пробивавшийся наружу, освещал вокруг себя не больше метра пространства, и Алиса с удивлением обнаружила, что стена сложена из гигантских, метрового охвата бревен, темно-серых, гладких и холодных. Только сейчас озноб пробил Алису с ног до головы, она поняла, что совершенно замерзла. Она обхватила себя за плечи, ощутив мурашки на голой коже рук и поежилась. Ей предстояло сделать выбор.
Этот странный дом посередине утоптанного круга, заброшенного в темную бездну напоминал убежище лишь с виду. По сути же Алиса ощущала внутри нечто, отторгаемое всеми органами чувств сразу. Только мозг твердил успокоительные слова о том, что внутри всегда безопасней, чем снаружи. Так она и стояла, снедаемая разрывающими ее на части сомнениями, стояла, казалось, часами, потому что время в этом месте напоминало густое и тягучее желе, наподобие бурлящей темноты вокруг.
Пока не появилось еще что-то. Какое-то движение за спиной Алисы, беззвучное, но явственное. Она долго не могла заставить себя обернуться, и наконец через силу лишь покосилась назад. Однако и мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять – произошли изменения в относительной стабильности этого странного места. Алиса, своим присутствием здесь, привлекла к себе внимание чего-то из темной пропасти внизу. Какие-то тени перемещались за спиной Алисы, пытаясь всё больше приблизиться к ней. Они внушали такой же животный, первозданный ужас в чистом виде, что и бездна, из которой они появились. Казалось, только близость дома и белесого света, пробивавшегося из-за двери, удерживал их от того, чтобы броситься на пришелицу, чуждую им, даже противоположную им. Алиса не могла разглядеть ни глаз, ни лиц, просто комья угольной темноты метались из стороны в сторону, но ненависть, которую они излучали, заставили Алису дрожать, как в лихорадке. Ненависть и голод. Такой жгучий, ненасытный голод, как будто он тысячелетиями накапливался в этой бездне.
Скорее тело само среагировало на это появление, нежели Алиса приняла решение за него. Ее ладонь нащупала металлическое кольцо на двери и потянула на себя. Свет, хлынувший в открытый проем, был тускл и бледен, но глаза Алисы уже настолько свыклись с темнотой, что она тут же оказалась им ослеплена. В другое время она дождалась бы, пока сможет хоть что-то разглядеть внутри, прежде чем зайти, но ее мозг вдруг взорвался ужасными воплями созданий за ее спиной. Их крик был так ужасен, что Алиса, не в силах ни мгновения выносить его, заскочила в дом и захлопнула за собой дверь.
Через несколько секунд, когда ее глаза снова обрели способность видеть, она с изумлением рассмотрела прихожую, сильно напоминающую деревенский дом прошлого века. Деревянные доски пола, бревенчатые стены и даже рукоять какого-то сельскохозяйственного инструмента, торчащая из темного угла прихожей говорили о принадлежности обстановки к старинной избе. Только вот пейзаж за порогом вовсе не напоминал пастораль. Впрочем, Алиса почти сразу устремила свой взгляд в комнату, которая, по всей видимости, была единственной в доме.
В комнате, освещаемой громадной свечой на столе, не было окон. Отсутствовали в ней и какие-либо украшение в виде ковров или картин. Огромные бревна стен и доски потолка покрывал толстый слой копоти, словно бы она копилась здесь десятилетиями. Всю середину комнаты занимал большой грубо сколоченный стол. Слева от стола у стены стоял здоровенный сундук, обитый металлическими полосами крест-накрест. За столом спиной к Алисе сидела человеческая фигура, сразу приковавшая к себе ее внимание. Алиса смотрела как завороженная, не в силах отвести взгляд от этой фигуры, хотя ничего невозможно было разглядеть под широким черным одеянием хозяина с капюшоном, низко надвинутым на лицо и напоминающим монашескую рясу. Перед фигурой на столе лежала самая большая книга из когда-либо виденных Алисой. Фолиант возвышался над столом почти на метр. Черная фигура выводила на его листе что-то тонким и длинным металлическим стержнем.
«Учитывая, что стол тоже довольно высокий, — подумала Алиса, — какого же он роста?!»
Она вошла в комнату насколько можно беззвучней, хотя и понимала, что это не очень-то вежливо. Но фигура за столом навевала на Алису слишком сильный страх, чтобы попытаться привлекать к себе ее внимание. Это был страх совсем иного рода, нежели бездна за пределами странного дома. Страх был холодным и острым, словно клинок, приставленный к горлу. Не побуждающий к бегству, но, напротив, парализующий. Не дойдя до сидящего нескольких шагов, Алиса замерла на месте, вся скованная ужасом по рукам и ногам.
В этот момент раздался голос. Он не напоминал Алисе ничто, слышанное до сей поры. Это был даже и не голос вовсе. Он не колебал воздух вокруг Алисы. Он приходил изнутри. Всё тело Алисы служило ему проводником. Ее кости и мышцы вибрировали, передавая смысл слов хозяина.
— Что ты делаешь здесь?
Прошла пара минут, прежде чем Алиса смогла ответить. Он терпеливо ждал этого, ни на мгновение не прекращая писать.
— Я не знаю, как попала сюда. Что это за место?
— Это мой дом.
— Кто же вы?
В этот момент Алиса заметила, что одеяние хозяина колыхнулось. Так, словно бы он хотел обернуться на нее с любопытным взглядом, но потом удержался.
— Ты до сих пор не поняла?
— Почему я должна это понимать?
— Неважно. Теперь я вижу, кто ты. Ты не должна здесь быть. Тебе следует вернуться обратно.
— Но как? Я даже не знаю, как очутилась здесь?
Понемногу Алиса начала привыкать к этому кошмарному голосу, сотрясающему ее плоть. Слова хозяина говорили, что он не имеет ничего против нее. Она даже попыталась обойти стол, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. Но он остановил ее.
— Стой! Ты не должна смотреть мне в глаза. Иначе тебе придется остаться здесь навсегда!
— Хорошо, хорошо! Как скажете. Я вовсе не хочу здесь оставаться. Пожалуйста, помогите мне отсюда выбраться.
— Да. Ты должна только сказать, кто тебя сюда отправил.
— Я понятия не имею. Я даже не знаю, куда – сюда. Что это за место?
— Ты должна знать – кто это. Вспоминай хорошенько. Ты нарушила установленный порядок. Такие, как ты не должны быть здесь.
— Я… не знаю. Не помню…
Она действительно не помнила ничего. Она только знала, что находится в этом месте уже достаточно давно. Но что было до этого не помнила совершенно. Она пыталась изо всех сил. Однако кроме черного переливающегося неба ничего не вспоминалось. Это было так странно! Никогда до этого Алиса не страдала подобной забывчивостью. Она даже разозлилась на себя, и закусив нижнюю губу, изо всех сил старалась хоть что-то припомнить.
— Подойди, — вдруг произнесла фигура за столом.
— Зачем? – просто спросила Алиса.
— Подойди, — повторил он. В его голосе не было ни настойчивости, ни обнадеживающей улыбки. Такое же безразличие, как и все фразы, что проходили сквозь Алисино тело.
Она приблизилась, встав практически у него за спиной.
— Ближе.
— Вы же сами сказали… — начала Алиса.
— Ближе.
Она встала рядом с ним. Всё ее существо переворачивалось внутри от ужаса, излучаемого хозяином. Ее голова кружилась, мозг был заполнен обрывками странных фраз, сыпавшихся на отнявшийся язык. Горло сжал спазм, как и желудок, все внутренности, казалось, подкатились к горлу. Ноги почти не держали ослабевшее тело, и Алиса понимала, что через пару минут грохнется в обморок. Словно бы фигура хозяина была не совместима с ее организмом, словно бы он излучал разрушающие всё живое волны, отбирающие силу и саму жизнь.
Сначала он взял ее за руку, не поднимая лица от страницы. Алиса едва смогла подавить крик, настолько холодной была его ладонь. Длинные пальцы обхватили ее руку, заключили в себе так, что Алисе показалось, будто ее ладонь обнял камень. Однако это прикосновение и слегка облегчило ее состояние. У нее даже вырвалось что-то похожее на облегченный вздох. Сейчас, находясь так близко, Алиса поняла, что от фигуры, скорее, исходит безразличие, нежели угроза.
— Я ничего не вижу, — вдруг сказал он.
Отпустив ее руку, он поднял свою мертвенно бледную ладонь ко лбу Алисы, продолжая смотреть вниз. Лед его руки коснулся ее лба, сдвинув в стороны растрепавшиеся волосы одним движением указательного пальца. В тот же миг Алиса закричала. Ей показалось, что пальцы хозяина втекают в ее голову подобно струям жидкого азота. Ощущение было непередаваемо отвратительным, но, к счастью, совсем коротким. Через мгновение он опустил ладонь вниз. Несколько секунд тело Алисы еще беззвучно сотрясалось от пережитого шока. Она порывисто отдышалась и ухватилась за край стола.
— Я должен был узнать.
Она поняла, что это было его оправданием.
— Кто вы? – снова повторила она свой вопрос.
— Запомни: лучше оставаться в счастливом неведении, нежели знать то, во что ты пока не можешь поверить.
— Я не понимаю.
— Я знаю. Теперь я о тебе всё знаю, Алиса Игоревна Селезнева. Но тебе пора идти.
— Вы уже узнали то, что хотели?
Алиса поражалась сама на себя. Как это у нее еще хватало смелости проявлять любопытство в подобной ситуации?!
— О, да! Кто-то решил поиграть со мной. Я не люблю игр. Я прерываю их, не начав. Кто-то сильно заблуждается на мой счет. Скоро я узнаю цели этих игр. И расставлю всё по местам. Необходим порядок.
— Как же мне выбраться отсюда?
«И куда?!..» — этот вопрос Алиса не решалась задать даже самой себе. Она не могла вспомнить, куда ей возвращаться. Как будто бы в мире не было ничего, кроме этого места, как будто это и был ее дом.
— Ты даже не представляешь, насколько близки к истине твои догадки, — промолвил хозяин.
— Что вы хотите сказать?
— Придет время – узнаешь. А пока – иди. Ты отрываешь меня от работы.
— Как же я уйду?
— Руку! – вновь потребовал он. – Положи на стол.
Она опустила свою ладонь рядом с его, в очередной раз поражаясь, насколько огромной была ладонь хозяина. Левой рукой он прижал ее запястье, а правую с острым стержнем поднес к ее коже.
— Что вы делаете?! – вскрикнула Алиса.
Он, не говоря ни слова, вонзил стержень в ее руку и начертил на тыльной стороне ее ладони знак, напоминающий букву странного алфавита. Металл был настолько охлажден, что Алиса почти не почувствовала боли. Скорее, что-то похожее на легкий ожог. Она отдернула руку, как только он отпустил ее, и уставилась на знак, начинающий постепенно терять форму из-за тонких струек выступившей крови, прочерчивающих на коже собственные причудливые следы.
— Что теперь? – прошептала Алиса. Ей пришла в голову ужасная мысль, что над ней могут просто издеваться. Вдруг он и не думает ее никуда отпускать.
— Без моей печати тебе не пройти мимо растворенных. Иди, чего же ты ждешь? За то время, что ты здесь, мной уже и так сказано больше слов, чем за пятьдесят тысяч лет, прошедших в мире до этого.
— А?.. – начала Алиса, но потом передумала задавать вопросы. Она повернулась и подошла к двери. Ее вдруг охватило совершенно невероятное чувство. Она ощутила, что не хочет покидать этот дом. Даже не из-за того, с чем ей вновь придется столкнуться за его порогом. Просто ей показалось, что она привыкла здесь быть. Будто ничего иного ей и не нужно было. Чувство навсегда ускользающей родины охватило Алису, и она вдруг поняла, что сейчас разрыдается.
Ее спасло от этого прикосновение ледяных пальцев хозяина к ее голым плечам. Его громадная тень нависла над Алисой, когда он обнял ее плечи и тихонько подтолкнул к выходу.
— Пора возвращаться.
Это казалось невероятным, но Алисе почудилась теплота в его голосе. Насколько вообще можно было различить хоть какое-то выражение в вибрациях, проходящих сквозь собственную плоть. Забывшись, она хотела обернуться к нему, но он поймал ее голову за макушку, обжигая холодом до самого мозга и повернул к двери, вновь подталкивая вперед. Алисе ничего больше не оставалось, как распахнуть ее, сдерживая подступающие слезы.
Она шагнула в темноту, и тяжелая дверь тут же захлопнулась за ней, погружая вновь в одиночество посреди бурлящего чернильного пространства. Надо было куда-то идти, но Алиса не знала куда, и ничто вокруг не подсказывало ей этого. Через несколько минут она заметила странное багровое сияние, расходящееся прямо от нее. С изумлением глядя на собственную ладонь, Алиса наблюдала, как процарапанный на ней знак испускает слабое свечение. Теперь даже продолжающая капать кровь – ее, Алисы кровь – светилась едва заметным светом. В этом была какая-то странная красота, не похожая ни на что, жуткая и забавляющая одновременно.
Алиса смогла оценить пользу этого свечения уже две минуты спустя, когда она ощутила вдруг неудержимое желание двинуться вперед. Она сделала один шаг, потом второй, и тут… вывалилась в собственную комнату, хватая воздух ртом, как рыба на песке, с бешено колотящимся сердцем. Всё тело было покрыто липким холодным потом, а ладони мелко тряслись. Целых несколько долгих секунд она вспоминала — кто она такая и где находится.
Вслед за первой волной растерянности пришел гнев. Кто, кто, черт побери, так подшутил над ней? Кто мог подсунуть подобную гадость?! Кому вообще могло придти в голову создать такую жуткую фантасмагорию? В этой шутке (если это действительно была шутка) не было абсолютно ничего смешного.
— Ночник, — прошептала Алиса и наклонилась, чтобы вытащить кассету из сонотрона. Когда слабый свет ночника осветил угол комнаты, Алиса дернулась от ужаса, не удержала равновесие и скатилась с матраца на пол. В сонотроне вообще не было никакой кассеты. Но не это так поразило Алису. На собственной руке, протянутой к аппарату, отчетливо виднелся странный символ, похожий на букву незнакомого алфавита, окруженный ореолом запекшейся крови. Тот самый, нацарапанный ужасным незнакомцем в балахоне.
На следующий день в школе Алиса была странным образом избавлена от истории. Еще издалека, подлетая к зданию, Алиса увидела темно-синий флаер, назначение которого ей было прекрасно известно. Вокруг толпилась группа школьников и учителей. Это был флаер следственной группы.
Когда Алиса подбежала к флаеру, в толпе послышался шум. Кого-то выносили из главного входа. В этот момент к Алисе подскочил Пашка Гераскин. Он вращал глазами, не обращая внимания на бледный вид Алисы, явно готовился вывалить все новости. Алиса бросила взгляд сквозь расступившуюся толпу на выезжающие бокс-носилки. Они были затемнены.
— Начисто. Представляешь! – твердил Пашка Алисе на ухо.
— Что? – попыталась она сосредоточиться на его возгласах.
— Голову, представляешь, начисто снесли.
— Голову? Какую голову, кому?
— Парнишка такой непонятный учился в девятом классе. Тихоня. На творческом потоке практиковался. Будущий режиссер. Я тебе как-то говорил о нем.
— Что, когда?
— Да, давно, пару месяцев назад. У него такой взгляд всегда странный был. Словно удав, честное слово! И всё за тобой наблюдал. Ты тогда еще посмеялась надо мной.
Странно, но Алиса совершенно не могла вспомнить ни разговора, ни самого девятиклассника, про которого твердил Пашка.
Бокс-носилки въехали во флаер, и сопровождавшие его двое следователей в темно-синих форменных кителях стали просить школьников разойтись.
— Так что ты там про голову сказал, я не поняла?
— Ты оглохла что ли сегодня, Алиска? Я тебе в двадцатый раз повторяю. Голову снесли ему. И никто ничего не видел. Там весь коридор кровью залит. Я сам не видел, но успел расспросить тех ребят, что нашли его. Говорят, что начисто голова отрублена, как косой. Девчонку одну увезли, ей плохо стало…
Алиса не слушала дальше. Эта фраза — «как косой» — засела ей в голову словно здоровенный гвоздь. Она вдруг явственно вспомнила прихожую деревянного дома из огромных серых бревен и черенок инструмента, торчащего в темном углу. Слова «кто-то сильно заблуждается на мой счет» пришли ей в голову помимо воли. Кажется, она поняла, к кому в гости отправил ее этой ночью безымянный девятиклассник.
Pinhead.
ASBooks.
2003.
———————-
R E T U R N T O I N N O C E N C E
Видно, дьявол тебя целовал
В красный рот, тихо плавясь от зноя.
И лица беспокойный овал
Гладил бархатной черной рукою.
Э. Шклярский.
Захария Гутти был великим поэтом. И великим мучеником. Если бы спросили любого из того мира, что окружал Гутти со всех сторон, кто вызывает у них наивысшее восхищение и наивысшее сочувствие одновременно, не колеблясь назвали бы Гутти. В этом странном человеке воплотилась гениальность и обреченность одновременно. Или, если угодно, гениальность обреченности. Стихи его читали так, словно приникнув к сладостному источнику. Кровавому и прекрасному. Всем, кто на Земле интересовался поэзией как таковой или же романтическими переживаниями отдельно от творчества, было известно об обстоятельствах жизни поэта и трагической истории его любви. Для тех же, кого не интересовали и никогда не интересуют сентиментальные бредни, Захария Гутти служил синонимом бесполезно растраченной жизни.
Алиса узнала о Гутти благодаря случаю. Всякий, кто знал Алису поверхностно, мог бы в душе посетовать на ее излишнюю рассудительность и, порой, даже некоторую отстраненность. Но это явилось бы ошибочным взглядом. Конечно, трудно было представить себе Алису, рыдающую над стихотворной строкой, однако тот живой отклик, который вызывали у нее чужие страдания порой заставлял девочку проводить недели с тяжелым внутренним осадком, пока он не смывался яркими впечатлениями от ее немного сумасшедшей жизни, мчащейся словно локомотив под горку без тормозов.
Алису удивила строчка рецензии, бросившаяся ей в глаза со страницы стихотворного сборника, лежавшего на столе ее матери. Фраза «великий страдалец Нового време-ни» резанула своей необычностью именно потому, что была применена к современнику Алисы. В первый момент Алиса решила, что рецензия ругательная, и фраза использована в ироническом смысле. Но прочитав абзац, Алиса поняла, что упустила из виду какую-то важную историю, произошедшую недавно или даже происходящую сейчас. А ничто так не радовало сердце Алисы, как необычные истории.
Здраво рассудив, что уж коли ее мать читает эти стихи, то ей наверняка известны все обстоятельства дела, Алиса решила умерить свое любопытство до вечера, когда мать обычно возвращалась домой с работы. Использовать сухие выжимки информации компьютера Алиса не очень-то любила. Особенно тогда, когда ее любопытство было по-настоящему возбуждено, и она жаждала подробностей. Тех особых подробностей, нюансов личного отношения, которые вносит любой устный рассказчик, независимо от своего таланта говорить.
На лице матери после своего вопроса Алиса увидела смешанные чувства, результирующей которых было отсутствие желания говорить хоть что-то на данную тему. Алиса прекрасно знала, что ее настойчивость может побудить мать начать рассказ, но так же хорошо она поняла, что этим она причинит ей боль. Поэтому она сделала вид, что ее вопрос был случаен, и что она не придает ему большого значения. Однако на самом деле любопытство ее разгорелось нешуточным пожаром.
Поразмыслив у себя в комнате, Алиса пришла к выводу, что ей стоит спросить о Гутти у их учителя литературы в школе. Пожалуй, он мог знать о нем даже побольше матери. Пока же Алиса взяла книжку стихов и, забравшись с ногами на диван, стала поглощать невероятную поэзию Гутти страницу за страницей.
Он писал короткими, резкими стихотворениями со странным, неровным ритмом, то тянущимся, то рваным, и каждая строка была насыщена ощущением сладкой обреченности, напоминающей привкус крови. Страдание воспевалось наравне с любовью, сплетаясь с ней в какой-то дикий комок из непонятных намеков, приоткрывающих, казалось, полог никому не ведомой тайны. При этом Гутти вовсе не прилагал усилий к тому, чтобы разнообразить или украсить собственный слог. Все его стихи были на удивление похожи и на удивление же завлекательны этой своей похожестью. Когда Алиса перевернула последнюю страницу, она ощутила приступ душевной боли, связанной со стремлением продолжать, продолжать во что бы то ни стало глотать волшебные и, вместе с тем, ужасающие строки еще и еще. Сейчас она, не в состоянии отойти от полученного впечатления, пыталась представить себе этого человека, который заставил ее забыть себя, других, забыть время, жить только в пространстве своих чувств, не желая более ничего иного, кроме унылой музыки стихов Гутти.
Часы показывали половину первого, и Алиса просто не могла понять, как ее до сих пор не отправили в постель. Она вышла на кухню и уткнулась в молчаливый взгляд матери. Она вдруг с ужасом поняла, что и мать, и другие домашние не раз заглядывали к ней в комнату и, наверное, даже что-то пытались у нее спрашивать. Такое случилось с ней в первый раз. Она, в общем-то, всегда недолюбливала стихи.
Мать отвернулась к окну и сделала вид, что настраивает кухонную автоматику. Алиса ждала от нее упрека, но так и не дождалась. «Наверное, она ждет моих слов», — подумала Алиса, но не было сейчас на свете ничего, что могло бы в данный момент заставить ее сказать хоть слово. Она опасалась, что если попытается, то вместо слов выскочат только рыдания.
Алиса не могла представить себе, что же настолько сильное заставляет ее мать молчать тогда, когда она вся переполнена желанием обрушить на Алису всю свою озабоченность, которая буквально просвечивала сквозь ее кожу. Какова же тема, что мать предпочитает о ней молчать даже тогда, когда опасается за свою дочь?
Как ни странно, но заснула Алиса практически сразу. Ее юное тело взяло верх над возбужденной душой и отправило ее в мир без сновидений, в короткий отрезок жизни, состоящий из ничего. Когда Алиса проснулась на следующее утро, впечатления от прочитанных стихов несколько потускнели, как будто это вообще был странный, тягостный, но яркий сон. Улыбка вновь цвела на ее мягких губах, как лилия среди лепестков роз.
Учитель литературы был высоким, сутулым человеком за сорок с аккуратной прической и смешными усами. Больше он походил на физика, особенно, когда изучал что-то, низко склонившись над своим автоблокнотом. И если бы не древние фолианты, которыми вечно был завален весь его небольшой стол, можно было принять его за человека, далекого от отвлеченного творчества. Но только до тех пор, пока он не начинал говорить.
На вопрос о Гутти учитель улыбнулся сквозь усы несколько многозначительной улыбкой. Его вид говорил, что девочка где-то у взрослых схватила обрывок информации, и теперь ее мучает простое любопытство. Он сразу же посоветовал Алисе покамест взяться за более простых для постижения современников.
Алиса прекрасно его поняла. Но весь опыт его общения с Алисой в рамках школьных занятий убеждал ее, что этот человек далек от того, чтобы считать своих учеников несмышлеными существами. Надо только показать ему, что ее интерес — не пустое любопытство.
«Я читала его», — сказала Алиса. Когда учитель поинтересовался, что именно, она назвала заглавие сборника.
«Неплохо для начала», — ответил он и снова улыбнулся, на этот раз уже одобряюще, и Алиса поняла, что их вкусы совпали, а значит, разговор получится.
Однако вместо слов учитель чиркнул Алисе пару названий, смысл которых заставил Алису внутренне содрогнуться. Она поняла, что это другие сборники стихов Гутти.
«Чтобы проникнуть глубже, тебе следует прочитать вот это, — пояснил учитель, склонив голову, — пока ты только впитала оболочку его творчества. Только внешний абрис, возможно, весьма притягательный, но дающий лишь общую картину. По-настоящему, глубину стихов Гутти раскрывают вот эти книги. В них более обширные, более протяженные стихотворения. И одна поэма – вершина творчества Гутти, по его же собственным словам. Впрочем, большинство критиков сходится на том же. Попробуй прочитать это. Ты обнаружишь, что у тебя не получится сделать это так, как в первый раз. Ты уже не сможешь запоем проглотить книгу, не замечая ее. Придется потрудиться и, возможно, тебе этот труд будет не по силам, ввиду юности твоих лет. Как только тебе станет совершенно непереносима его боль, закрой книгу и отложи ее на потом. Я не сторонник запрещать или скрывать что-либо от своих учеников, но всё же следует быть поосторожней с этим кровавым вулканом».
Алиса так и не услышала истории, но она поняла, что ей хотели сказать. Ей было дано испытание. Если она с успехом минует его, она сможет быть готова и к дальнейшему. Но Алиса была сейчас благодарна и за это. В ее душе разгорелось страстное желание вновь погрузиться в мир Гутти без просвета и надежды, в багровые волны его приливов и отливов. И любопытство уже больше не имело такого значения.
Дома она по абонементу отца вытянула из Всемирной библиотеки названия, данные ей учителем. Потом она жадно смотрела, как принтер быстро оформляет стандартные пластикаты в традиционную книжную форму, принятую среди людей уже так давно, и переходящую из поколения в поколение, как старая пословица. Взяв книгу в руки, Алиса осторожно гладила подушечками пальцев еще теплую поверхность тончайшего пластика, внутри которого словно плавали буквы цвета запекшейся крови.
В этот вечер Алиса первый раз за последние три месяца даже не притронулась к школьным заданиям. Она села за стол, разложив вокруг учебные материалы для отвода глаз. Ей не хотелось, чтобы домашние, и, в первую очередь, домроботник, мучили ее ненужными вопросами.
Эти стихи действительно отличались от вчерашних. Так, как отличается первый крепкий порыв приближающейся бури от самой бури, бушующей со всей своей яростной силой. На этот раз багровые волны не давали Алисе даже приподнять голову над поверхностью океана страданий. Душа Алисы следовала указанным ей путем, захваченная волшебными строками, не в силах препятствовать их притягательной силе. Ведомая путями разнообразных чувств, среди которых преобладала ужасная, обреченная любовь. Мысли совсем покинули Алису. Наверное, она не отдавала себе отчет в том, что просто не понимает умом каких-то вещей, написанных Гутти, потому что еще никогда не испытывала их, даже не подозревала о них. Она не знала способов защиты от того, что по-настоящему завладеет ею только годы спустя. Беззащитность перед лавиной странных эмоций и незнакомых чувств только способствовала более глубокому проникновению их в ее душу. Так, как будто Гутти пустил в нее причудливых, невероятных зверей, терзающих ее совершенно безнаказанно, ведь хозяйка только завороженная в ужасе глядела на них, не имея ни сил, ни знаний, как прогнать пришельцев, хотя бы на время.
Алиса оторвала глаза от страницы, когда ей показалось, что лист заливается стекающей сверху кровью. Только когда ужас окончательно заполнил ее сердце, она вырвалась из липких объятий стихов и поняла, что принятое ею за кровь была всего лишь тень ее отца, упавшая на лист.
— Алиса? – промолвил он тихо.
— А? – отозвалась она и пролепетала еще несколько слов по-итальянски. С полуоткрытым ртом и пылающими щеками она смотрела на отца совершенно чужим, потерянным взглядом, не в силах найти в голове каких бы то ни было слов. На миг ей показалось, что она полностью забыла русский язык.
— Что с тобой? Мама говорит…
— Я… Я занималась! По литературе… Нам задали, – похожие на карканье ворона слова вырвались помимо ее воли, Алиса могла в этом поклясться. Секунду назад она и не думала лгать отцу.
— Ты так зачиталась. Я два раза тебя звал – ты ничего не слышала. Это уже второй день, Алиса. Что тебя так увлекло?
— Гутти, — тихо ответила Алиса, не зная, какой реакции ожидать, — ты читал его?
— Нет, — покачал головой отец, и Алиса вдруг почувствовала сильное облегчение, так, словно ее чуть не уличили в чем-то постыдном.
— Пожалуйста, не забывай об ужине и сне, — с насмешливо-мягкой улыбкой проговорил отец, — мама за тебя тревожится.
— Да, я знаю, — кивнула Алиса, — скажи ей, чтобы она не волновалась. Это всего лишь стихи.
«Всего лишь стихи»! Когда дверь за отцом закрылась, Алиса ощутила, как краска стыда заливает ее лицо. Откуда в ней взялось вдруг столько изворотливости? Тонкий намек ничего не подозревающему отцу, что стихи – не самое любимое Алисино чтение. Впрочем, стоило ей опустить голову и поймать оборванную ниточку стихотворной строки, как эта маленькая проблема перестала для нее существовать. Ею овладели чувства гораздо более сильные, жгучие и ранее запретные из-за своей отталкивающей анатомии, словно обнаженные внутренности.
На этот раз в одиннадцать вечера домашний робот прервал ее плавание по волнам своих эмоций и отправил спать – совершенно потерянную и почти разорвавшую свою связь с привычным миром, бывшую до этого момента такой прочной. Сновидения вновь не тревожили ее голову – ни хорошие, ни плохие. Чернота сна была столь абсолютной, что слишком походила на отрезок небытия.
Сном, скорее, Алисе показались на следующий день часы, проведенные в школе. Она существовала там лишь постольку поскольку, вся погруженная в собственные переживания. Казалось, что-то переваривается внутри нее, оформляется в некие причудливые новые формы, меняя взгляды и пристрастия. И только одно стремление прослеживалось явно и недвусмысленно. Скорее вновь добраться до строчек темно-багрового цвета. В этот день она не пошла после школы на биостанцию, совершенно забыв о своих прежних затеях и замыслах. Она теперь уже жалела, что провела там половину вчерашнего дня. Удивляясь дикости своих собственных мыслей, Алиса, тем не менее, вовсе не желала от них отказываться. Словно что-то перевернуло ее внутренний вектор.
Две книги, указанные учителем, она преодолела за четыре дня. И тут же бросилась на поиски новых. Список оказался не столь обширен, как этого хотелось Алисе, но достаточен, чтобы занять ее внимание на следующие несколько недель.
Изменения, происходящие в ней, прогрессировали с каждым днем. Какое-то чудесное везение спасало ее от полного завала школьных предметов, что было скорее следствием внешнего проявления чувств, бушевавших внутри Алисы. Учителя, видимо, совершенно неосознанно старались не касаться ее странной отстраненности и полного отсутствия интереса к знаниям, которые они пытались внушать группе. Может быть они видели на лице Алисы что-то так им знакомое когда-то, но крепко позабытое с поры юности. А может сам вид горящих необыкновенным огнем глаз Алисы отпугивал их и внушал мысль отложить разбор данной проблемы на другое, более благоприятное время.
Ее сверстники отказались от желания проникнуть сквозь непроницаемый покров внешнего спокойствия Алисы после нескольких неудачных попыток. И только ее ближайшие друзья пытались вывести ее на откровенный разговор. Не то, чтобы Алиса была против такого разговора, но едва лишь она пыталась как-то выразить то, что с ней происходило, привычные слова пропадали, отказываясь служить ей. Она смотрела на знакомое лицо и видела на нем то, что никогда не замечала ранее. Следы тех же чувств, что сейчас бушевали внутри нее. Мир вокруг разительно переменился. Как будто до этого Алиса жила, прикрытая колпаком собственной ограниченности, не замечая многого, не замечая, возможно, главного. События потеряли привычную жесткую связь, последовательность, превратясь в случайный круговорот, выхватывающий и поднимающий наружу то одно, то другое происшествие, замечательное только тем, что его просто заметил кто-то из толпы. Она потеряно бродила по пустым дневным улицам и нараспев декламировала стихи, возможно, даже вслух, кажущиеся ей в данный момент подходящими для ситуации, проходящей мимо нее. И возвращалась домой только для того, чтобы снова взять в руки книгу с волшебными строками Захарии Гутти.
Всё продолжалось до того момента, как однажды учитель литературы не удержал за рукав выходящую из класса Алису и не посадил ее перед собой, чтобы рассказать ту самую историю, которую так хотела когда-то услышать Алиса.
— Возможно, я был не совсем прав, — признался он, начиная разговор. – Я переоценил твои силы, Алиса. Я думал, что ты придешь ко мне обсудить всё на следующий же день и не подумал, что ты можешь уже оказаться не в состоянии этого сделать. Видишь ли, Алиса, взрослые люди, читая Гутти, как будто наливают в сосуды своей души прекрасный живительный напиток. Кто-то считает его кровью, кто-то добрым вином. Но тебе всего тринадцать, твоя душа еще чересчур хрупка, и жидкость, влитая в тебя, начала разрушать сам сосуд. А этого я, как ты сама понимаешь, не могу допустить.
Я наблюдал за тобой эти недели, решив покамест подождать и посмотреть, возможно, твои внутренние силы смогут преодолеть это испытание. Но, видно, ты еще слишком юна для этого. Следует остановить процесс, захвативший тебя. Я долго думал, как это сделать, пока не пришел к выводу, что русская пословица «Клин клином вышибают» подходит тут наиболее точно. Я расскажу тебе истинную историю Гутти так, как она не излагается в справочниках.
— Не стоит, — подняла ладонь Алиса, — для меня теперь это уже не важно. Мне достаточно того, что вы помогли мне обрести новый, незнакомый мир. Таких чувств я не испытывала еще никогда ранее, и я благодарна вам, в том числе. Но истории мне не надо. Меня это уже не интересует. Сейчас я понимаю, насколько наивным было мое любопытство.
— Алиса, ты словно пропустила мимо ушей половину из того, что я говорил. Мне необходимо рассказать тебе это, чтобы помочь тебе. Ты же веришь мне, что тебе нужна помощь?.. Не спеши мотать головой! Так, как я советовал тебе в свое время книги Гутти, и ты верила мне, так же ты должна верить и сейчас, когда я говорю, что тебе надо услышать его историю.
— Хорошо, я послушаю, — кивнула Алиса, — хотя… Вы заблуждаетесь, думая, что это как-то изменит то, что во мне…
— Посмотрим. Никогда не загадывай ничего, относительно своих чувств. Женщина в первую очередь не должна обманываться на этот счет. Бывает, собственные чувства играют с ней странные штуки.
Алиса смотрела, как он разглаживает свои усы, подбирая нужные слова, и ею владела умиротворенность в присутствии этого человека. Она не подозревала, что вскоре от нее не останется и следа.
— У Захарии Гутти с детства прогрессировала душевная болезнь, называемая в просторечии раздвоением личности. Странная особенность, отличающая случай Гутти от других, подобных, заключалась в том, что у него это раздвоение внешне совершенно не проявля-лось, и никто не знал о ней до поры… До той поры, когда она принесла свои ужасающие плоды.
Вторая сторона личности Гутти была несколько импульсивней и резче, не более того. Со стороны она была похожа просто на перемену настроения. К тому же, она давала о себе знать весьма редко, лишь в случаях исключительного всплеска чувств.
Гутти не всегда был поэтом. Сначала он работал в инженерном отделе одной судостроительной организации в Неаполе. Там он впервые увидел Оливию Монтале. Увидел и полюбил с первого же взгляда, так, как это бывает только в романах. Беспамятной и всепоглощающей любовью, разом заставившей его забыть и о своей прежней работе и о прежней жизни. Оливия сперва находилась в некотором смятении от приступов его бурной страсти, но потом всё же поддалась ей и благосклонно приняла предложение связать свою жизнь с Гутти, как он сам клялся ей, до самой смерти. Многие были в недоумении от этого ее решения, так как Оливия Монтале была удивительно красива. Ее пышные, соломенного цвета волосы придавали смуглому лицу сходство с бронзоволикими божествами древней Трои. Этим она составляла контраст с внешне безликим обликом Гутти, похожего на лысеющего клерка. К тому же она была значительно выше его ростом. Оливия была необыкновенно красива и очень молода при этом. Моложе Гутти на двадцать лет. Все эти обстоятельства не могли не вызвать некоторых пересудов. Но парочке не было никакого дела до подобных мелочей. Они поселились в просторном доме на берегу моря, построенном еще в конце прошлого века, и некоторое время их жизнь составляла полную идиллию. Оливия родила Гутти двух дочерей, с разницей в один год, обе с раннего детства давали понять окружающим, что со временем станут красавицами не хуже своей матери. Всем вокруг казалось, что в семье Гутти царит мир и спокойствие. До тех самых пор, пока однажды Оливия самым внезапным образом не покинула свой дом и не исчезла, оставив Захарию Гутти в полной безутешности. Бедняга бродил по округе и выкрикивал ее имя, глядя в океанскую даль. Соседям удалось выяснить, что Оливия уехала рано утром, оставив записку, что не может больше выносить ужасного характера своего мужа, странных смен его настроения и приступов дикой ревности, которым он предавался порой на виду у своих дочерей. Как выяснилось, Гутти безумно ревновал свою жену к любому, даже случайно зашедшему визитеру и не давал ей возможности спокойно покидать дом, постоянно преследуя ее в общественных местах и на работе, которую в результате ей пришлось оставить. Оказалось, что Гутти дошел до того, что сам уволился с собственной работы, чтобы неотступно следить за своей женой, в результате превратив свою семью в затворников. Оливия долго терпела такую жизнь, потому что по-своему любила мужа и, прежде всего, из-за дочерей, но в один прекрасный момент ее терпение иссякло, и она бежала в неизвестном направлении, опасаясь, что муж станет ее разыскивать.
Что же до самого Гутти, то, казалось, он не мог понять в чем же дело. Он твердил всем, что ничего такого он делать не мог, что он был нежен и предупредителен с супругой, а ревновал лишь внутренне, никак не выплескивая свои чувства на кого бы-то ни было. Несомненно, это были проявления его странного недуга, о чем сам Гутти не подозревал, и о чем не ведали другие. Эта вторая сторона его личности и начала выходить наружу тем сильнее, чем сильнее он любил свою жену.
Вот после ее внезапного бегства Гутти и написал первые свои стихи. Говорят, что издатели получили первый экземпляр его нескольких стихотворений, написанными на бумаге странной бурой жидкостью, в которой, после немалого изумления, опознали кровь. Вряд ли какой-либо, уважающий себя издатель стал бы печатать стихи, написанные кровью автора, но, к счастью, они сразу же были прочитаны. Вне всякого сомнения, они поразили всех, и, предвидя бешеный успех у публики, издатели отдали рукопись в копирование. С тех самых пор стихи следовали постоянно, открывшийся в Гутти талант не иссякал и не менял своего страстного накала, а наоборот лишь разгорался сильнее. Кровью он более не писал, хотя неизменно присылал свои стихи написанными от руки ужасным почерком на мятой, часто совершенно не пригодной для письма бумаге. Он стал известным человеком, и обстоятельства его жизни занимали многих, увлеченных его пером, но сам Гутти никогда не давал интервью и не встречался с журналистами. Он всегда был погружен в черную тоску по Оливии, и только дочери скрашивали его тоскливую жизнь.
Так продолжалось несколько лет, пока вдруг стихи от Гутти перестали приходить. Встревоженные издатели много раз пытались выяснить, что же случилось, но поэт упорно не желал никого видеть. Частная жизнь человека священна, и, не смотря на явную досаду, издателям пришлось оставить Гутти в покое. Полгода от него не было никаких известий. До тех пор, пока его старшая дочь не уехала поступать в один из Университетов Марса, естественно, как объяснил Гутти, под чужой фамилией, дабы не привлекать к себе ненужного внимания. Надо сказать, что его дочерям приходилось зачастую несладко из-за известности отца и истории, связанной с его именем. Много раз они вынуждены были уклоняться от назойливой прессы и менять школу за школой, чтобы избежать излишнего внимания к себе.
После того, как старшая дочь покинула Гутти, тоска, очевидно, вновь овладела его сердцем, и он прислал новые стихи обрадованным издателям. Стихи несколько отличались от прежних своеобразной тягучестью и особенной чувственностью, но менее талантливыми они не стали. Именно после выхода в свет нового сборника второго цикла его стихов один из критиков назвал Гутти человеком, поставившим Петрарку на колени.
Через год, когда и вторая дочь покинула его, уехав на обучение, из-под пера Гутти вышла поэма «Растерзанный возглас» – самое недосягаемое и великое творение. Именно тогда он достиг пика своей славы. И именно в этот момент и произошло падение. Кошмарное разоблачение тайны творческого вдохновения самого гениального поэта современности.
Тайну обнаружил сам Гутти, точнее, его обычная, известная всем ипостась. Однажды, во время своей одинокой прогулки по берегу моря он услышал стоны, доносящиеся из небольшого домика неподалеку от его жилья, в котором давно уже поселились соседи, такие же затворники, как и он сам. Никому не удалось еще увидеть странных жильцов за несколько лет, что они приобрели это жилье, однако, какая-то жизнь в доме, несомненно, происходила, о чем свидетельствовал свет в окнах по ночам и, изредка, подравниваемые кусты шиповника, росшего на лужайке перед домиком.
Сначала Гутти принял возгласы за голос работающего телевизора, но они никак не прекращались, и ему ничего не оставалось, кроме как набраться смелости и заглянуть в дом. Он не увидел ничего особенного в хорошо прибранной гостиной, но стоны доносились из дальней комнаты, и, когда он прошел в нее, его глазам предстала ужасающая в своей омерзительности картина. Комната не имела окон, что было неудивительно, так как кто бы ни являлся ее хозяином, у него хватило ума скрывать следы своей деятельности от людей. Весь пол, стены и даже потолок были покрыты бурой коркой от широких разводов и тысяч брызг человеческой крови, которая, по всей видимости, ни разу не смывалась за долгие годы. Все эти старые следы ужасных преступлений кое-где оказались забрызганы свежими кровавыми следами. Посреди комнаты стоял круглый, грубо вручную сколоченный стол, весь также пропитанный кровью, как будто морильной краской. Через стол были перекинуты кожаные и металлические приспособления, явно служившие для того, чтобы удерживать в неподвижности человеческое тело. Вокруг стола в полумраке комнаты Гутти удалось разглядеть лишь устрашающего вида станки и инструменты, вне всякого сомнения созданные лишь затем, чтобы довести искусство истязания до невиданных высот. Стоны же издавало жалкое подобие человеческого существа, прикованное к стене, и прикрытое лишь зеленым шерстяным одеялом. Когда оно подняло лицо, почему-то совершенно не тронутое орудиями пытки, то Гутти к великому ужасу узнал в нем свою младшую дочь. Увидев отца, та лишь вскрикнула и лишилась чувств. Обезумев от потрясения, Гутти намеревался тут же схватить ее на руки и доставить в ближайшую больницу, но не смог этого сделать, потому что освободить несчастную от цепи у него не было никакой возможности. Это, как оказалось, было и к лучшему, так как взяв ее на руки, Гутти наверняка нанес бы ей дополнительные травмы.
Единственное, что ему оставалось, так это немедленно вызвать скорую помощь и полицию. На счастье, и те, и другие прибыли незамедлительно. Еще в медицинском флаере, осматривая дочь Гутти, врачи пришли в ужас, обнаружив страшный, нечеловечески извращенный характер повреждений девушки. Сам Гутти просто не мог прийти в себя, и его пришлось буквально спасать от нервного шока. В больнице через некоторое время его дочь пришла в себя и на вопрос о преступнике, не колеблясь, назвала отца. Придя в недоумение, полицейский сначала не принял всерьез такие показания, приписав их помутненному в результате жутких пыток сознанию. Однако почти тут же в домике были найдены многочисленные следы, принадлежащие Гутти, и более никому другому. Еще через день полиция обнаружила и два других трупа – жены Гутти и его старшей дочери, также со следами пыток, закопанные прямо под кустами шиповника во дворе. Несмотря на такие явные улики потрясенный Гутти твердил о своей полной непричастности. Незамедлительно была проведена психиатрическая экспертиза, обнаружившая неоспоримый факт его душевной болезни. Совместная группа психологов и следователей шаг за шагом восстановила произошедшие события, начиная с момента вступления в брак Гутти и Оливии Монтале.
Как я уже говорил, вторая личность Гутти проявлялась тем сильнее и чаще, чем более душевных переживаний приходилось на долю первой. Чем сильнее разгоралась любовь Гутти к своей жене, тем активнее скрытая ипостась выражала себя. В основном, во вспышках ревности и агрессивного поведения. Разумеется, это приводило только к ухудшению отношений между супругами. Наконец, Гутти, точнее его второе «я» узнало, что жена намеревается тайно уехать, забрав с собой обеих дочерей. Воспользовавшись этим, Гутти дождался, пока Оливия напишет записку, долженствующую подтверждать свой отъезд, и связав, запер в подвале собственного дома. Возможно, поначалу у него и не было намерений причинить ей насилие. Но первое «я» Гутти, естественно, не подозревая, как обстоят дела, узнав об исчезновении жены, погрузилось в такую глубокую депрессию, что это не преминуло тут же сказаться самый пагубным образом. Скрытая личность приобрела маниакальные черты. Сознавая, что в подвале женщина будет скоро обнаружена, Гутти занимает пустовавший домик по соседству и ночью переводит жену туда. Надо сказать, что второе «я», в основном, действовало по ночам, тогда как днем настоящий или «первый» Гутти, покинув работу, зачастую спал едва ли не целыми днями напролет.
Далее маньяк в голове Гутти начал действовать самыми кровавыми методами. Соорудив в своем новом убежище целую пыточную камеру, он принялся применять свои «изделия» на собственной жене, что, очевидно, возбудило в нем нешуточное вдохновение, выразившееся в стихах. Утром Гутти нашел на своем столе листок с первым стихотворением, написанным кровью его почерком, но фактически ему не принадлежавшим. Однако он находился в таком подавленном состоянии, что зачастую не мог отличить сон от яви и, без сомнения, решил, что написал стихотворение в припадке душевной тоски. Если бы в издательстве сразу же догадались отдать листок на экспертизу, двух жертв удалось бы избежать. Но это не было сделано, и кровавая ипостась личности Гутти продолжала свои ночные изощрения. Каждое утро он находил на столе новые стихи и уже не сомневался, что пишет во сне. Несколько лет Гутти истязал свою жену самыми ужасными способами, и несколько лет поток потрясших весь мир стихов не прекращался ни на один день. Пока, наконец, Оливия не умерла. Прекратились ночные походы в соседний домик, прекратилось и творчество.
Далее история повторилась. Затаившаяся личность в голове Гутти, жаждавшая новых кровавых удовольствий, выбрала новую жертву и терпеливо дожидалась удачной для себя возможности. Как только старшая дочь оказалась в ее лапах, стихи полились свежим потоком. Однако, то ли девушка оказалась менее вынослива, чем мать, то ли маньяк переборщил с пытками, но старшая дочь умерла очень быстро. Тогда пришлось заняться и младшей, она как раз собралась, как и своя сестра, уехать для поступления в Университет. Через полгода после того, как она тоже оказалась в страшной комнате, бдительность скрытой личности Гутти притупилась, и, в результате, девушка оказалась спасена тем же человеком, что и мучил ее, однако ж, одновременно вовсе не тем.
За всё это время никто не хватился жертв, потому что и у Гутти и у Оливии не было близких родственников. Гутти вступил в брак, когда уже был в возрасте, Оливия же была сиротой с детства. Ее родители погибли. Друзей же жены Гутти фактически разогнал приступами своей ревности еще тогда, когда они жили вместе.
Разумеется, Гутти признали невменяемым и не отвечающим за поступки своего странного мозга. Его поместили в специальную лечебницу, где он, кстати, пребывает до сих пор, и почти вылечили. Не трудно догадаться, что он испытал, когда понял и поверил в то, что сделал собственными руками. Разумеется, он тут же попытался покончить с собой. Если бы не круглосуточное наблюдение, его давно уже не было бы в живых. Он практически здоров, но находится в постоянно зафиксированном положении, кормят его внутривенно и пытаются хоть как-то отвлечь от постоянной жажды смерти. Посетителей к нему допускают лишь под неусыпным контролем персонала, чтобы Гутти не было передано ничего, что могло бы даже отдаленным образом помочь ему совершить самоубийство. Да, он, между прочим, продолжает писать стихи. Ведь часть его второй ипостаси растворилась в первой. Конечно, это не тот уровень, что был раньше, но, тем не менее…
Я сказал «писать»? Не писать, разумеется… Как только ему освободили одну руку, и дали специальный мягкий карандаш, чтобы он не воткнул его себе в глаз, он тут же схватил зубами себя за палец, желая отгрызть все по очереди, за то, что они совершали. Теперь он просто надиктовывает компьютеру текст.
— Это… Это бесчеловечно… — прошептала Алиса.
— Что?.. Что ты говоришь?.. Так вот. Я рассказал тебе то, о чем не написано ни в справочниках, ни в аннотациях. В них тебе сообщат, что жена и дочери Гутти пострадали в страшной катастрофе. После обсуждения проблемы решено было скрыть истинное положение вещей. Представь себе ситуацию. Во всем мире миллионы людей наслаждались творчеством великого поэта, и вдруг обнаруживается, что на самом деле представляют из себя эти стихи. Ведь Гутти вплетал в них крики и возгласы мучимых им жертв! Некоторые свои четверостишия он умудрился вырезать прямо у них на коже! Это вызовет настоящий шок. У многих прямо может пострадать душевное здоровье. Такой переход от восторженного состояния к прямой своей противоположности попросту опасен! Поэтому решили замолчать истинную историю. Конечно, кое-что просочилось, но только в виде слухов, а кто же верит в слухи по-настоящему? Обычно люди принимают их за шепот завистников. Ты спросишь, откуда же тогда я знаю правду? Очень просто. Я должен ее знать благодаря своей профессии. Как это связано? Я ведь учитель литературы. Может случиться так, что кто-то из моих учеников узнает истину или часть ее из других источников. Я должен помочь ему воспринять ее правильно. Поэтому мне предоставили информацию, попросив, естественно, скрывать ее, кроме крайних случаев. Что я и делаю. И также надеюсь, что ты не будешь распространять ее дальше.
— Я не понимаю… — произнесла Алиса.
Она была ошеломлена. Всё время рассказа она сидела, распахнув свои голубые глаза, ни на секунду не отрывая их от собеседника, и не моргая смотрела отсутствующим взглядом, чуть приподняв брови от изумления. Больше всего ее поразил даже не сам рассказ, а то, что она подсознательно подозревала что-то такое и раньше. Сколько раз до этого ей хотелось поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями от стихов Гутти, и никто не мог подойти для такой роли лучше, чем ее учитель. Но почему-то она снова и снова уклонялась от разговора с ним. Теперь она понимала почему. Она опасалась, что услышит от него что-то подобное. Что-то, ранящее ее непоправимо жестоко. Она совершенно не ощущала себя избавленной от магии стихов Гутти, не смотря на их ужасающую подоплеку. Теперь ею владело чувство, что она прикована к мертвецу. Она не могла вытеснить впечатлений от стихов из своей головы, но теперь уже не могла и с ними примириться. Алиса чувствовала, что учитель совершил роковую ошибку.
— Чего ты не понимаешь?
— Как?.. Как это всё могло произойти?! Как просмотрели его болезнь? Почему никто не обнаружил пропажи?
— Я же говорил…
— Ведь если бы он сам не нашел свою дочь, то она до сих пор бы… О, боже! И до сих пор бы выходили его стихи. Те стихи.
Алиса говорила что-то, но не слышала сама себя. Просто двигала губами, произнося какие-то подходящие фразы. Мозг защищался от шока, придумывая логические, привычные ему загадки.
— Почему они не дадут ему умереть?! Это же жестоко! Они обрекают его на мучения, хотя сами в свое время просмотрели болезнь.
Алиса встала и вышла из класса, не слыша более ничего, произносимого учителем вслед.
Зачем?! Зачем он рассказал ей?!
Ее мозг продолжал искать способов защиты, лихорадочно блуждая среди привычных будничных решений. Алиса всегда исправляла проблемы действием. Или почти всегда. Она пока что не умела по-другому. И на этот раз ничего не могло прийти ей в голову, кроме решительного, верно направленного действия. Попытаться исправить хоть что-то. Другой частью своих мыслей Алиса изо всех сил старалась удержаться от собственного воображения. Как только стихотворная строчка подкрадывалась к ней, словно змея, намеревающаяся ужалить, Алиса принималась решать в голове домашнее задание по алгебре. Она подсознательно ощущала, что стоит ей начать произносить про себя стихи Гутти, воображение попросту раздавит ее, затопит мозг яркими кошмарными образами и выжжет изнутри. Алиса буквально чувствовала над собой эту бурлящую тяжелую тучу, опускающуюся сверху ниже и ниже.
Так она оказалась на биостанции. Разговор с учителем длился долго, и, на счастье Алисы, домик был уже пуст. Она уселась за приборы и стала лихорадочно работать. Ей не хватало ее химии, но ее биология с лихвой возмещала этот недостаток. Она никогда до этого так не погружалась в работу. Ей казалось, что тело превратилось в автомат, пальцы летали над реактивами, как у пианиста, играющего Шопена, а мозг воспроизводил формулы словно под чью-то диктовку. Два часа пролетели для Алисы словно одна минута. Ее оторвало от работы чье-то прикосновение, которого она какое-то время вовсе не замечала. Потом она поняла.
За ее спиной стоял питекантроп Геракл, привезенный из палеолита, которого они кормили и воспитывали всей станцией. Он пытался поцеловать Алису так, как это любил делать только он – в шею под самым ухом, отодвинув локон золотых волос.
Алиса оглянулась и посмотрела в его мутные глаза. Словно впервые она прочитала в них, в оскале его слюнявого рта, во всей его позе что-то, на что раньше не обращала внимания. Или предпочитала не обращать. То, что она раньше желала принимать за примитивную ласку. Ей внезапно стало настолько отвратительно, словно ее с ног до головы окатили нечистотами. Рассказ учителя уничтожил, растоптал ее невинность, теперь она видела всё. Она обеими руками оттолкнула питекантропа от себя, он покатился по полу, не ожидая такой реакции и с обиженным воем бросился прочь. Из груди Алисы вырвался всхлип, она вскочила и подбежала к окну, желая вдохнуть свежего воздуха. Ей показалось, что она задыхается. На самом деле именно в этот момент прошел шок, не отпускавший ее до этих самых пор. Реакция была бурной и болезненной. Словно уровень воды в запруде поднялся недопустимо высоко. Алиса сползла на пол, рыдания били ее изнутри, как рваная пружина, однако ни капельки слез не появлялось на ее длинных ресницах. Она пыталась закричать, но в горле как будто застыл ком стеарина. Как рыба, выброшенная на раскаленный песок с крючком во внутренностях, она дергалась, стоя на коленях, пытаясь вывернуть из себя засевшую внутри боль. Наконец тело, устав от себя самого, выплеснуло терзавшее его чувство в виде потока слез и стона. Горечь, пришедшая со слезами, была похожей на избавление. Алиса ощущала, как светлеет у нее внутри, так, будто слезы вновь отмывали ее кристальную душу, возвращая ей утерянную чистоту. Поэтому она даже не пыталась остановиться, рыдая навзрыд, словно оплакивая весь расколотый мир. Она походила на Божество Плача своей безупречной, невинной красотой и откровенностью ничем не сдерживаемых эмоций.
Шок отпустил, но, проплакав много долгих минут, Алиса стала слабой, и пришел черед воображения. Оно набросилось на Алису, сжав в своих крепких тисках, и теперь уже она видела только иллюстрации. Жуткие, отвратительные иллюстрации к каждой строчке стихов Гутти. Они звучали в ушах Алисы, но теперь уже только как истерзанные крики жертв. Кровь, кровь была везде, и никакие слезы не могли ее смыть. Как в тумане Алиса поднялась на ноги, схватила со стола то, что так лихорадочно изготавливала и выбежала из домика.
На бульваре она впрыгнула в первый попавшийся флип и взмыла свечой вверх, утонув в обхватившем ее кресле. Ей было ужасно плохо, но она понимала, что в таком состоянии прийти домой значило устроить дома грандиозный переполох. Не хватало еще вовлечь во всё это родителей! Ей следовало хотя бы слегка успокоиться. На высоте ста метров она остановила флип и попыталась взять себя в руки. Это было почти невозможно. Воображение снова и снова бросало ей в глаза картинки, яркие, как в бреду. Если бы Алиса могла, она тотчас помчалась бы в Неаполь. Но исчезнуть вот так внезапно, на ночь глядя, не предупредив родителей? Это невозможно! И, самое главное, ее всё равно бы не пустили к Гутти. Было уже поздно, не смотря на разницу во времени. Но завтра она полетит обязательно. Утром же, отпросится из школы, и полетит. А сейчас ей предстояло стиснуть зубы и, не обращая внимания на кровавые следы вокруг, попытаться дома сделать вид, что всё в полном порядке.
На вопрос: «Ты чего так поздно?», Алиса ответила почти правду: «Занималась на биостанции». И сразу уползла к себе в комнату. На ее юном лице почти не осталось следов слез. Стол был завален раскиданными книжками Гутти. Алиса собрала их в высокую стопку с самым сосредоточенным выражением лица. Наверное, со стороны она выглядела деловито. На самом же деле Алиса едва сдерживала крик, так, словно брала в руки раскаленное железо. Она поднесла стопку к утилизатору и остановилась. Ее колебания длились долгую минуту. Потом она всё же покачала головой и вернула книги обратно на стол. Возможно, в ней сказалось почти врожденное уважение к книге, которое всегда испытывается в семьях интеллигентов. А, возможно, стихи Гутти держали ее крепче, чем она думала прежде. Она украдкой взглянула на свои ладони, словно ожидая увидеть на них следы крови и, до боли закусив губу, пошла на голос матери, звавшей ее ужинать.
Ложась спать Алиса сделала то, что она делала весьма редко. Она включила сонотрон. Прекрасно осознавая, что в противном случае спать ей этой ночью не придется. А если и случится такое чудо, то всё, что она увидит во сне, вряд ли можно будет назвать сновидением, освежающим голову. Однако даже эта мера не уберегла Алису от получаса бодрствования, которые она провела в постели, пока мягкое жужжание сонотрона погружало ее в другой мир. Сквозь полусомкнутые веки Алиса видела, как над ее головой медленно покачиваются распоротые тела, подвешенные к потолку, и кровь с них капает ей на лицо. Она уже примирилась с этим, примирилась со страхом утонуть в этой крови, погрузиться в нее целиком, примирилась с тем, что тела что-то шепчут безгубыми ртами. Она просто молча терпела и ждала спасительного биоэлектрического сна. Пока не почувствовала запах тысяч цветов вместо запаха свежей крови. Она поднялась посреди цветущего весеннего луга и пошла, раздвигая траву, к красно-белому маяку на берегу моря. Трава за ней сходилась обратно, подобно волнам, а ее босые ступни не приминали ни одной травинки.
Утром Алиса встала на полчаса позже, надела вместо привычного комбинезона шорты и футболку, бросила в сумку несколько необходимых мелочей, наскоро перекусила, и, нацепив кепку с длинным козырьком от яркого итальянского солнца, собралась выпорхнуть из квартиры. Отец остановил ее на пороге коротким вопросом:
— А школа?
— Я договорилась, — не моргнув глазом солгала Алиса.
Сегодня был удивительно легкий день. В том числе, для лжи.
— Куда ты?
— В Италию. Вернусь к ужину. Голодная.
— Ха! – усмехнулся отец. – Хотел бы я в годы своего детства иметь возможность вот так на день смотаться в Италию и обратно. Завидую.
— Ты хочешь сказать, я тоже буду когда-нибудь завидовать своим детям?
— Непременно. Особенно, если они характером будут на тебя похожи.
В клинике ей сказали, что надо подождать. И вообще, еще не факт, что Гутти согласится ее видеть. «Он перед вами отказал семерым, — сказали ей, — он мало для кого делает исключение».
Алиса сидела в светло-зеленом фойе и невидящим взглядом смотрела на большую репродукцию Тинторетто. Про себя она повторяла только две фразы: «Он должен меня принять. Именно меня, именно сегодня». Она не заметила, как произнесла это вслух. На ее счастье, по-русски. Нетерпение накатывало на нее волнами, то заставляя лихорадочно сжимать и разжимать ладони, сложенные на коленках, то снова отпуская, оставив в безучастном созерцании картин больничного быта.
Пока кто-то не сказал над самым ее ухом: «Проходите». Тогда она пошла вслед за кем-то в белом, по коридору к лифту, и ее нетерпение теперь уже терзало непрерывно, острой иглой застыв в ее груди. Перед самой палатой Алиса заметила узкие полосы сканеров. Ее просветили с головы до ног в один момент, пока она пересекала порог двери. Сумку отобрали тоже.
В палате было сумрачно. Одно большое окно наполовину закрыто жалюзи. Единственная кровать, теперь сложенная, как глубокое кресло, стояла за белой полупрозрачной перегородкой. Алиса сделала три шага до перегородки и оказалась прямо перед лежащим человеком.
Гутти оказался еще ниже ростом, чем представляла Алиса. А, может быть, всё дело было в глубине кресла. Или в глубине его переживаний. Он был почти уже лыс, лишь остатки всё еще густо-черных волос завивались над маленькими ушами. Крупный итальянский нос и небольшие усы в сочетании с круглыми выпуклыми глазами действительно придавали ему сходство с конторским служащим. Особенно учитывая его слабый подбородок. Он внимательно смотрел в плоский экран перед собой, не обращая внимания на посетительницу и слегка перебирал губами, очевидно, повторяя про себя какой-то текст. Его предплечья пересекали широкие повязки, а ладони были утоплены в специальных пластиковых рукавицах, укрепленных на поручнях кресла-кровати. Напротив него в кресле сидел невысокий мужчина в белом халате, скорее всего, дежурный врач и что-то быстро набирал на крошечном пульте в руке. Увидев Алису, он сперва основательно поводил по ней взглядом вверх-вниз, и лишь затем улыбнулся широкой улыбкой южанина, обнажив два ряда безупречно белых зубов. Алиса едва смогла скривить губы в жалком подобии улыбки от охватившего ее страшного волнения, и тут же перевела взгляд вновь на Гутти.
— Садись, — вдруг сказал он, так и не подняв на нее взгляда.
— Но…- развела руками Алиса, не видя ничего подходящего.
— В углу, — пояснил врач.
Алиса огляделась и действительно заприметила в углу небольшой больничный стул. Она совершила быстрый рейс в угол и обратно, и примостилась в двух метрах от кровати Гутти, с пылающим взором и сжатыми коленями.
— Должен тебе сказать, — проговорил Гутти (голос его был ворчлив, но очень разборчив), — что я слышал о том, как тебе удалось вытащить из беспамятства целую планету, уж не помню, как там она называется.
— Крин.
— Да, да, что-то в этом роде. Это правда?
— Это преувеличение. Я была не одна, к тому же ничего такого особенного я не сделала.
— Ну, да, разумеется, семья и школа учит скромности. Хорошо, забудем об этом. Хотя именно из-за этого я согласился поговорить с тобой. Мне стало занятно взглянуть на ребенка, способного возвратить память такому количеству народу сразу.
— Я же сказала…
— Да, да, можешь не продолжать. Ты читала мои стихи?
— Да, конечно.
— Я надеюсь, ты здесь не потому, что тебе надо подготовить школьный доклад?
— Нет. Я пришла вам помочь.
— Вот как? Любопытно. По крайней мере, в твоих устах это звучит не так уж невероятно.
Алисе послышалась издевка в его словах, но она решила не обращать на это внимания.
— Вы думаете, я обычная сочувствующая ваша поклонница? Нет. Я знаю вашу настоящую историю.
Алиса остановилась, чтобы посмотреть, как он отреагирует. Он впервые оторвал глаза от экрана и взглянул на нее. Алиса была готова поклясться, что его взгляд не отображает ни одной мысли, как будто она смотрелась в своеобразное зеркало.
— Что ж, это даже лучше. Тогда ты должна рассказать мне всю свою историю.
— То есть?
— Ну ты же знаешь всё про меня. Расскажи же, что меня интересует. Как ты прочитала стихи, что ты почувствовала, как ты узнала мою историю, что с тобой случилось потом?
— Зачем вам это?
— От этого зависит, сможешь ли ты мне помочь или нет.
— Это долго.
— Я никуда не тороплюсь, как видишь.
— Ладно, хотя я не уверена, что у меня получится.
— У тебя получится.
Тогда Алиса принялась рассказывать ему. Про свое первое знакомство с его стихами, про учителя, про другие стихи, про то, как учитель попытался вытащить ее из того состояния, в которое она погрузилась, про то, в каком шоке она была от истории. Не рассказала она только то, что делала на биостанции за лабораторным столом. Гутти слушал молча, не прерывая ее ни единым вопросом, и не пытаясь помочь. Просто смотрел на нее не мигая, изредка шевеля тонкими губами. Доктор в кресле, казалось, вообще не обращал внимания на их беседу.
Под конец Алиса спросила:
— Это правда, что вы пытались покончить с собой?
— Правда.
— Я вас понимаю.
— Я вот что тебе скажу, Алиса. Может это будет не слишком-то вежливо, но твой учитель – дурак! Он ничего не понял. Совсем ничего.
Алиса невольно вздрогнула. Она вдруг разглядела сейчас на лице Гутти ту, вторую личность, проявившуюся во внезапной вспышке эмоций.
— Что вы имеете в виду?
— Я о его бреднях на счет сосудов и напитков, которые в них наливают. Он не разглядел самого главного. То, что почувствовала ты. Знаешь, мне приходило несколько писем от людей, подобных тебе. Которые поняли истинный смысл стихов. Быть может ты и не осознаешь этого, но по тому, как они подействовали на тебя, я вижу, что ты поняла. И ты — единственная, кто отважился после этого приехать ко мне. Ты ведь русская?
— Да.
— Хм, у вас – русских – удивительно развита интуиция, — сказал Гутти по-русски, — почти как у итальянцев.
И слегка улыбнулся.
— Вот я и подумал, что только такой человек и может мне помочь.
Врач впервые взглянул на Алису заинтересованно. Похоже, беседа привлекла, наконец, его внимание.
— Я тут лежу уже довольно долго, и у меня полно времени, чтобы обдумать многое. Знаешь, Алиса, единственное, что может хоть как-то оправдать смерть моей жены и дочери – то, что люди поймут истинное значение этих стихов.
— Вы думаете? Тогда объясните мне. Я не понимаю вас.
— Ты не понимаешь. Но ты чувствуешь. А это важнее. Ну, вспомни только: эти стихи читают миллионы людей во всем мире. И чувствуют их тайную силу и величие. Неужели все эти люди – чудовища? Неужели ты тоже – чудовище, которое способно лишь наслаждаться чужими страданиями? Нет. Это вовсе не так. Постарайся понять, что эти стихи принадлежат не совсем человеку, их нельзя оценивать человеческими критериями. И поэтому в них скрыто нечто большее. Некий намек, как будто полог тайны приподнялся. Накал страданий, что был в той маленькой комнате, слился, сконцентрировался в стихах, перемешавшись со странным сознанием и вызвал к жизни нечто совсем новое, обращенное напрямую к нашим эмоциям. Так, будто сумасшедшему удалось сделать то, чего не удавалось всем гениям на протяжении человеческой истории. Выразить любовь и страдания словами. Реально их овеществить в материальную форму. Знаешь, о чем это говорит? О том, что все мы связаны. Все мы, как бусины надеты на одну и ту же нитку. Ты понимаешь, о чем я?
— Я стараюсь…
— Старайся, старайся, девочка! Как только ты поймешь меня, все твои кровавые образы уйдут. Старайся разглядеть, что есть вещи, независимые от нашего сознания, которые мы только считаем нашими. Тогда, читая эти стихи, ты будешь отделяться от своей личности. Некому будет страдать. Некому будет видеть страдания. Просто одна общая нить, одна общая жизнь. Тогда смерть не имеет значения. Тогда каждый возвращает утерянную невинность. Становится подобен ребенку.
— Я… Я должна сама это почувствовать.
— Почувствуешь. Обязательно почувствуешь.
— Спасибо вам! Теперь я вижу, что приняла правильное решение.
Алиса встала. Доктор бросил на нее вопросительный взгляд.
— У меня ничего нет, — развела руками Алиса, — я просто хочу его поцеловать. Он так много для меня открыл.
Доктор пожал плечами. Алиса сделала шаг, демонстративно завела руки за спину и наклонилась к лицу самого странного Алисиного современника.
Его тяжелое дыхание было наполнено запахом медикаментов и чеснока. Его жесткие усы укололи ее нежную кожу. Она закрыла глаза, и прикоснулась губами к его губам. На лице Алисы не дрогнул ни один мускул, когда она языком достала из-за щеки маленькую пластиковую горошину и протолкнула ее между жестких губ Гутти.
Когда она выпрямилась, то увидела, как одно из его век насмешливо прищурилось. Он оценил ее ход.
— Я помогла вам? – спросила Алиса.
— Помогла. Я благодарен тебе… за всё.
— Теперь решение за вами.
— Я уже его принял. Сколько, по-твоему, это продлится?
— Минут десять-пятнадцать… вы еще будете думать обо мне.
— Очень хорошо! Я надеюсь, для тебя самой наша встреча не будет иметь никаких последствий?
Алиса отрицательно замотала головой.
— Я умная. У меня, если хотите знать, уже две опубликованных работы по биологии.
— Тогда, прощай. Тебе пора идти.
— Прощайте.
Пока она вставала и пятилась к двери, он продолжал говорить.
— Да, ты молодец, Алиса! Ты умная, ты образованная, ты добрая и душевная, к тому же у тебя стройные ноги. Но… — сказал он, когда Алиса уже была в дверях, — одно условие… Никогда, слышишь, никогда не пиши стихов!
И он расхохотался во всё горло.
Алиса шла по больничному коридору, а до нее всё доносился его смех. «Удивительно, — усмехалась Алиса про себя, — человек на пороге смерти, а умудрился подумать о моих ногах!»
— Настоящий итальянец! – вздохнула она.
Ощущение внутренней легкости и свободы пришло к ней уже в фойе. Она сделала, что считала единственно верным для того, чтобы хоть немного уменьшить зло, вызванное к жизни монстром в голове Гутти. Ей удалось. И внутри нее всё пело. Осознание факта, что этот человек сейчас с ее помощью избавился от ужасных внутренних страданий, наполняло Алису праведным удовлетворением. Она видела, как мимо пробежали встревоженные доктора, выкрикивая что-то о реанимации. Она не волновалась. Она верила в свои способности. «Я сильнее вас, — говорила она про себя, — вам не успеть». Токсин, выделенный ею, в желудке взаимодействовал с обычным успокоительным, которым пичкали Гутти, и вызывал моментальный паралич центральной нервной системы. Один спазм, и тут же следовала остановка работы всех внутренних органов. Алиса запаковала токсин в оболочку, разъедаемую одним из ферментов, содержащихся в желудочном соке. Таким образом, от улик не оставалось и следа. Да, она была у него перед смертью. Так что же? Она ничего не сделала, разве только они обвинят ее в том, что она наслала на него порчу. Можно было спокойно лететь домой.
Вечером за ужином Алиса всё время молчала. Радость от своего поступка несколько притупилась, и к Алисе вновь начали приходить образы цвета крови. Она вяло ковырялась в тарелке, когда диктор по телевизору сообщил о смерти Гутти в больнице Неаполя. «От неверного сочетания лекарственных препаратов».
— Ты знала? – спросила мать.
— Угу, — кивнула Алиса.
— Я всё ждала, когда ты начнешь об этом говорить. Он же стал, кажется, твоим кумиром? Ты из-за него летала сегодня в Италию?
И в этот момент Алиса поняла. Она подняла на мать невидящие глаза. Истина, о которой ей говорил Гутти, вдруг встала перед ней так ярко, словно в голове Алисы вспыхнула сверхновая. Весь опыт переживаний, который она прошла за эти дни, вдруг спрессовался в один, прямой как стрела, ответ. Больше не существовало кровавой комнаты. Стихи Гутти стали ценностью в себе, не имеющие больше никакого отношения ни к нему, ни к кому бы то ни было еще. Они стали просто мостом к Истине.
— Я летала в Италию, чтобы убить его, — промолвила Алиса, и почувствовала, как губы, помимо ее воли, разъезжаются в глупой улыбке. Она вообще не могла сейчас сдерживаться. Всё вдруг стало не важным, кроме ее осознания.
Она вскочила и, заливисто смеясь, закружилась по комнате, повторяя:
— Я убила его, мама, я убила его, убила, убила, убила!
Словно влюбленная, твердящая: «Я люблю его, люблю, люблю!»
Мать, уронив вилку, как завороженная, следила за ее танцем, не понимая ничего. Она силилась вникнуть в восторг дочери, не ведая, что та радуется обретенному вновь ощущению утерянной было невинности.
Pinhead. © 2001.
ASBooks.
———————-
This song for lovers, tonight.
R. Ashcroft
Дождь шел уже третий день.
Алиса не привыкла к тому, чтобы дождь не прекращался так долго. Дома такого никогда не было. Дома дождь контролировали. Капли были совсем мелкими – осенними, они почти не оставляли следов на стекле, покрытом точками белой краски. Серого цвета за окном было так много, что он не разбавлялся даже ярко-желтыми огромными листьями, трепещущими под сильными порывами ветра на тонком клене неподалеку от окна.
Сумрачность дня, монотонность стука крупных капель с крыши о жестяной подоконник, мутные лужи с мелкими циркульными наметками дождя, голые ветви осин, ровное полотно неба – всё это рождало в Алисе какие-то непривычные чувства. Как будто из глубины ее мыслей наружу выплыли воспоминания о чем-то совсем уже было забытом, но теперь ожившем, поднявшимся во весь рост и не позволяющем загнать себя назад, как прежде. Она никогда еще не поддавалась черной тоске настолько сильно. Да она вообще никогда ей не поддавалась раньше! Теперь же был только дождь, только серый мокрый асфальт с выбоинами, заполненными водой, только сырые ветки с одинокими бурыми листьями, только безжалостный, полуслепой от слез город, которому не было никакого дела до людей, спешащих по его улицам в теплый мирок тесных квартир с электрическим освещением.
Алиса понимала, чувствовала, что, не смотря на далекую перспективу за окном, она находится в тюремной камере. Куда бы она ни пошла — ей не вырваться наружу, домой. Свобода была лживой. От этого становилось еще хуже.
Она обернулась, и в который раз ей стало тошно от унылой обстановки квартиры. Когда-то полированный, стол перед нею, теперь был весь испещрен царапинами. В одном месте виднелась конусообразная желтая плешь – явно оставили горячий утюг. На столе стояла настольная лампа с белым, массивным мраморным основанием и зеленым абажуром. Лампа весила килограммов пять, не меньше. У задней стены желтели два низких шкафа с отодранным кое-где покрытием, выделявшемся на грязном фоне шкафов длинными светлыми полосками. Узор старых обоев можно было разглядеть только в прямоугольниках, где раньше висели картины или зеркала. Хотя какие уж картины могли висеть в подобной обстановке, Алиса не могла себе представить.
Через дверной проем виднелась крохотная кухня с грязно-белым скругленным кубом холодильника, отчаянно дребезжащего, когда включался компрессор. Гул холодильника напоминал звучание обреченного гобоя.
Алисе снова безудержно захотелось плакать. Она никак не могла приучить себя к мысли, что ей придется остаться здесь навсегда, до самой смерти. В этом мире, похожем на осенний рассвет и разлаженным, как тот старый «Дон» на кухоньке.
Так живут здесь все? Да, но это совсем не утешало. Алиса могла рассказывать подобную чушь кому угодно другому, но не себе. Они жили здесь с рождения – эти люди, серые, подобно старому асфальту. А она знала другую жизнь. «Другую, ДРУГУЮ!» – вопило ее сознание, корчась от бессильных воспоминаний. Теперь она лишена этого счастья, она вырвана из ярких объятий ее родного мира. Она – изгой, обреченный на медленное мучительное умирание в течение долгих тоскливых лет. Без всякой надежды на спасение.
Гуров любил осень. Особенно такую погоду, когда мелкий моросящий дождь приятными холодными уколами вонзается в подставленное серым небесам лицо. Он брел по октябрьской Москве, Москве, готовящейся к тяжелым лапам осеннего вечера, и впитывал ту странную атмосферу, которая возникала в городе в эти недолгие дни. Особая прозрачность, одолевавшая воздух, делала неважными все дела и проблемы, круговоротом вращающиеся в головах жителей, делающие слепыми их глаза и глухими их уши. Слепыми к медленному свету умирающего года и глухими к блаженному плачу собственной души.
Гуров ступал неосторожно, игнорируя лужи, плеская из них грязными брызгами. Он не уделял внимания мелочам в такие волшебные моменты. Его душа пела, рыдая, его губы улыбались, когда по ним стекали мелкие капли то ли дождя, то ли его слез. В такие моменты он придавал особенное значение каждому образу, пришедшему в его голову. На этот раз образ был неожиданен.
Гуров почти остановился. Шум недалекого перекрестка за домами не давал ему сосредоточиться. Почему он подумал сейчас о своей соседке? Он не хотел сбивать ритм своего полета в атмосфере осенней Москвы, но лицо Марии из соседней квартиры вдруг стало перед ним так живо, что Гурову пришлось отступиться. Он с сожалением призвал свой рассудок и принялся мысленно медленно ощупывать каждый миллиметр этого вполне обычного лица городского подростка, который рос рядом с ним, но судьба которого сложилась куда менее удачно.
Маленькая черноволосая Мария никогда не выделялась среди своих сверстниц. Тихая от природы и постоянно стыдящаяся своей вечно пьяной матери, она и в дворовых играх-то участвовала лишь постольку поскольку, лишь бы совсем не считаться изгоем. Однажды она заходила к ним домой, попросить у отца Гурова, работавшего ведущим хирургом, помощи в попытках найти редкое лекарство для своей матери, которая к тому моменту уже умирала в какой-то отвратительной по условиям больнице. Тогда Мария стеснялась так, что Гуров, не в силах смотреть на ее мучения, ушел в другую комнату. Теперь положение Марии было совсем незавидным. После смерти матери родственников у нее не осталось, и ее должны были забрать в какой-то приют, потому что ей еще даже не было четырнадцати. Продвигаться дальше в подобных размышлениях Гуров не хотел. Он провел жирную черту, отсекая от себя судьбу Марии со старой привычкой жителя крупных городов, каждый день проходящих мимо десятков… нет, сотен чужих трагедий, которые так и остаются для них чужими.
Но что, собственно, в минуты особенного душевного подъема заставило Гурова подумать о Марии? Она никогда не нравилась ему – невзрачная, с искусанными губами и настороженным взглядом больших карих глаз. Ее тонкие черты выглядели болезненно на худом лице, а длинные волосы почти всегда растекались свободной волной, кое-где схваченные самыми простыми заколками. Может быть он особенно запомнил ее пристальный взгляд сегодня утром, когда выходил в школу? Она стояла на пороге своей квартиры, почти распахнув дверь, в стареньких, севших от частых стирок джинсах до колен и легкой светло-оранжевой рубашке, и Гуров вдруг совершенно отчетливо увидел в ней будущую женщину. От ее внимательного взгляда он вдруг стушевался, как будто она разгадала его мысли, и быстро побежал вниз. Он так и не слышал, пока несся по лестнице до первого этажа, закрылась ли ее дверь.
Алиса разбирала старые листки бумаги, скрепленные резинкой, чтобы отвлечься от плача, рвущегося из нее. Пожелтевшие, даже побуревшие фотографии, письма, картонные корочки документов. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти. Вся жизнь этих унылых людей, похожая на такие же унылые фотографии, запечатлевшие их застывшие в изнуренной улыбке, больше похожей на гримасу, лица. Как она, как ее родители, ее друзья, как они все могли происходить от этих людей?! Алиса чувствовала, что стыд охватывает ее, заставляя исправлять даже мысленно высказанные упреки. Какое она имеет право их судить?! Получившая свой счастливый мир готовеньким! Но, всё равно, она не может с ними жить! Она не приспособлена, она не в состоянии выносить каждый день эти засаленные обои, гул старого холодильника, пьяные крики под окном!
Потом взгляд Алисы упал на свежий конверт. Он был длиннее старых, и вместо марки у него стояла казенная печать. Алиса прочитала обратный адрес, но ничего не поняла в длинных аббревиатурах. Потом она вынула письмо. Текст был короткий, но в нескольких строчках Алиса прочитала собственный приговор.
Ее хотят лишить даже этого. Даже того малого, что она имеет сейчас. Той относительной свободы в рамках этой общей камеры-города. И последней самомалейшей надежды, теплившейся в ней с тех пор, как она попала в это жуткое положение. Надежды на то, что если она будет оставаться в том же месте, может быть, когда-нибудь ее смогут найти. Пусть даже через десять лет, через двадцать. Только бы пришло избавление! Хотя Алиса прекрасно понимала, что в таких делах годы не имеют значения. Если бы ее нашли, то освободили уже сейчас. Сколько бы времени на поиски не ушло там, можно было всегда «отмотать» на нужный момент.
Слезы сами закапали из ее глаз на бумагу, размывая чернила напечатанных букв. Слезы заполнили сердце Алисы, ее душу, самую ее укромную внутреннюю суть, всегда остававшуюся непреклонной в жизненных передрягах. Она плакала так горько, как могут плакать только люди, познавшие горечь слова «никогда»!
Подходя к дому, Гуров убыстрил шаг. С его недавним возвышенным настроением было покончено, мысли о разнообразных вещах занимали его голову. О завтрашней неприятной беседе с учителем физики про несделанный доклад, о Зудине из параллельного класса, с которым следует серьезно поговорить по поводу его ухаживаний за Танькой, о том, что надо бы не забыть переписать кассету, которую дали его отцу со съемками операций. Такая кассетка имела бы бешеный успех у многих. К тому же, очень хотелось есть. Гуров перекусывал в последний раз в два, а было уже шесть, и растущий организм требовал калорий.
Практически стемнело, и Гуров чертыхался, попадая в лужи, ставшие к концу дня совсем глубокими. Свернув к узкой бетонной дорожке вдоль самой стены дома, Гуров, отодвигая склонившиеся ветви сирени, двинулся под окнами первого этажа к своему подъезду. Почти все окна светились изнутри желтым светом, сквозь занавеси и шторы. Гуров мимолетно подумал о тех людях, что сейчас сидят в своих квартирах и ничего не знают про него, идущего почти у них под носом. Ему показалось такой наивной ощущение той отгороженности от мира, которое возникало у людей, лишь только они пересекали порог своих жилищ. Когда оставалось пройти всего одно окно, и Гуров мысленно уже был за обеденным столом, его нога вдруг наступила на что-то округлое и скользкое. Нога предательски заскользила вперед, вдруг взлетев перед самым его носом, и Гуров неожиданно оказался задом на холодном бетоне. Ветка оцарапала ему щеку, а тыльной стороной правой ладони он пребольно ударился о стену дома.
Охая и ругаясь, Гуров подался вперед, вставая на ноги, и рука его внезапно нащупала то, что послужило причиной его падения. Предмет на ощупь был похож на сомкнутую мидию, только побольше. Он целиком помещался у Гурова в ладони, заполняя ее своим округлым пластиковым теплом. Как ни странно, но Гуровым овладело вдруг сильное любопытство. Разом прошло раздражение, и он почти не обращал внимания на сильную тупую боль в ушибленной ладони. Прочно зажав предмет в левой руке, Гуров чуть не бегом заскочил в подъезд. Конечно, лампочка не горела. Он стрелой взлетел на третий этаж. Дверь открыла мать. Проворчала что-то о том, что он слишком долго где-то шляется после школы. Гуров включил лампу. В ее ярком свете в коридорном закутке он наконец рассмотрел предмет, который вызвал у него такое любопытство.
Алиса не знала, что пошло не так в момент перемещения. Ричард как-то говорил об «угрозе пересечения тахионных потоков», но лес в этой области естествознания был для Алисы слишком темен. Она слышала, что такие случаи происходили раньше, с тех пор, как временщики применили новую методику проникновения без использования физического перемещения. Но с тех пор утекло столько воды, так много было криков о стопроцентной гарантии, что Алиса и толики опасения не испытывала, когда ложилась на стол обмена. Она думала только о предстоящем эксперименте. Внедрение в мозг рептилии требовало предварительной подготовки, и, если бы не связи Алисы в руководстве Института Времени, она ни за что в таком юном возрасте не получила бы разрешения на обмен. Сейчас Алиса с горечью вспоминала собственные старания. Она сама, практически своими руками, подготовила для себя такую ужасную участь, что не пожелала бы ни одному врагу! О чем она тогда думала?!
Ни о чем, кроме своих экспериментов. Мозг, этот сумасшедший мозг расков с Капеллы! Эта потрясающая загадка, на которую она наткнулась, копаясь в научных ежегодниках своего отца. Что такого в нем было, что он позволял своим обитателям предвидеть будущее? Обыкновенная с виду ящерица заранее знала, что с ней должно произойти через минуту, час, иногда даже месяц. Кто знает, что в земных рептилиях не скрыта та же способность? Надо было проводить тысячи лабораторных опытов. Нет, Алиса решила обойтись простыми методами! Внедриться в мозг рептилии самой. Это было возможно одним единственным способом – обменом через толщу времени. Отправиться сразу в царство рептилий – в мезозой. И на собственном опыте почувствовать все прелести пребывания в шкуре ящерицы.
Последнее, что она помнила, прежде чем закрыть глаза – голубой светящийся потолок позади курчавой шевелюры Ричарда Темпеста. Когда глаза распахнулись – это уже были чужие глаза – слегка близорукие глаза Марии Аверкиной, московской школьницы, временно живущей одной-одинешенькой в московской квартире в конце 1989 года.
Сперва она не поняла. Почти ничего не изменилось, только в нос ударил какой-то кислый неприятный запах. Зато потолок был почти таким же голубым. Когда Алиса повернула голову, то увидела, как тусклые лучи осеннего солнца пробиваются сквозь голубую грязную занавеску. И начался кошмар!..
Сперва она ждала. Сразу, конечно, поняла, что произошло. Ее сознание отправили НЕ ТУДА. Было досадно. Потеряна куча времени. К тому же, на затее с рептилиями можно ставить жирный крест! После такого ЧП институт на долгий период вообще перекроет все обмены. Но время шло, и когда миновали первые сутки, Алиса начала понимать, что случилось нечто ужасное. Нечто, гораздо более худшее, чем просто ошибка адресата транспортировки. Так называемый, перекрестный обмен. Это означало, что, по какой-то причине, произошел одновременный перекрестный перенос сознаний разных существ из разного времени. Подобное было до этого один-единственный раз и стоило жизни человеку. Когда его всё-таки нашли временщики там, где он оказался, его уже убили. Алисин случай был гораздо хуже. Она рассуждала с нервной дрожью о том, как бы это могло быть.
Ее сознание оказалось в 1989 году в теле неизвестной временщикам девочки-подростка. Сознание девочки оказалось в неизвестном теле в ее времени. Сознание этого неизвестного переместилось в мезозой, а сознание ящерицы из мезозоя в ее, Алисы, тело. В этом случае, найти Алису практически невозможно. Ящерицу не допросишь. Если девочка окажется достаточно сообразительной и поймет все выгоды обмена, не станет объявляться, найти ее тоже невозможно. Все миллиарды жителей Земли не изучишь. Поэтому Алиса останется здесь навсегда. До самой смерти. Если бы временщики нашли выход, они уже прибыли бы за Алисой, либо устроили обмен. Но уж коли этого не произошло сразу, значит никогда не произойдет. Что случилось с сознанием несчастного, попавшего неожиданно в тело ящерицы в триасовом периоде – об этом Алиса даже не хотела задумываться!
Если бы тело, в которое отправили Алису, было бы старым, будущих мучений предстояло бы значительно меньше! Но она оказалась в обличье практически своей ровесницы – и теперь ей суждено было ползти длинный путь по унылым дорогам истории, известной Алисе из книг и учебных занятий. Дорогам, которым предстоит петлять еще так долго, прежде чем они выйдут на широкую трассу положенного пути. Алиса знала, что не доживет в этом теле даже до дня собственного рождения. Какая ужасная, отвратительная ирония! Всё, в ее случае, сложилось одно к одному. Если б она решила меняться не с рептилией, а хотя бы с обезьяной, с ней вместе послали бы прибор экстренной связи. Он давал гарантию на случай потери в прошлом или вот такого обмена. Прибор путешествовал вместе с сознанием в виде излучения и материализовывался рядом с хозяином. Это требовало гигантских энергозатрат, но безопасность считали превыше всего. А Алиса? Ну как рептилия вызовет помощь?! Как ящерице таскать прибор с собой, чем держать его? И вот – она здесь, без всяких надежд!
Предмет действительно напоминал сомкнутую раковину моллюска. Он был темно-лиловым, и от него исходили едва уловимые волны слабого тепла. Даже нет, не тепла, а какой-то странной очень мелкой вибрации, слегка раздражавшей кожу и напоминающей тепло. Гуров сделал несколько безуспешных попыток открыть странную раковину. Лезвие ножа тоже не смогло войти между плотно подогнанными створками. Покрутив предмет в руке, Гуров вдруг потерял к нему всякий интерес и бросил на полку. Он отправился на кухню, утолять на время отложенный голод. Мать священнодействовала у плиты.
— Вынеси ведро, — бросила она, даже не обернувшись, — почему об этом напоминать постоянно приходится?
— Может, сперва ужин? – жалобно протянул Гуров.
— Если тебе приятно нюхать во время еды объедки и разводить тараканов по квартире — пожалуйста! Но только не у нас в доме.
Гуров вздохнул и поплелся натягивать куртку и ботинки. Снова предстояло выйти под усилившийся дождь и пробираться между холмиками грязи, развезенной колесами мусорки, каждое утро выруливающей посреди тесных дорожек двора.
Он взял ведро и спиной выполз в подъезд, прикрывая за собой дверь. Когда он обернулся, то увидел перед собой Марию. Это было похоже на дежа вю. Снова, как и утром, она стояла в дверном проеме. Правда, на ней, в этот раз, была заношенная болоньевая куртка. В одной руке она держала доверху наполненное помойное ведро, а в другой еще и целлофановый пакет с мусором. Когда Гуров внимательней присмотрелся в полумраке подъезда, он с удивлением увидел, что Мария положила в мусор несколько пустых бутылок.
«В ее ситуации каждую копейку беречь надо! – подумал Гуров с укоризной. – Беспечная душа!»
— Привет, — сказал он вслух, чувствуя какую-то непонятную неловкость. Раньше такого с ним никогда не было.
— Привет, — ответила Мария и вдруг слабо улыбнулась.
Гуров поразился, какая приятная может быть у нее улыбка, и как сильно блестят ее глаза даже в полутьме. И, что еще больше удивило Гурова, она вовсе не выглядела застенчивой, как обычно.
— Что с тобой случилось? – спросила Мария.
Он не понял вопроса и недоуменно уставился на нее.
— У тебя на щеке… Я не могу понять, но, по-моему, там кровь.
— Что?… Ах, да! – он только сейчас вспомнил о расцарапанной веткой щеке и схватился за нее, ощущая слабое пощипывание и влажность не до конца запекшейся крови.
Это движение руки Гурова вызвало у Марии странную реакцию. Она вдруг инстинктивно дернулась, словно в желании схватить его за руку, но потом, как будто бы сдержалась. Вместо этого она сказала:
— Что ты делаешь?! Грязными пальцами хватаешься?! Заразу занесешь!
Такого тона Гуров никогда не слышал у Марии раньше. В нем звучала спокойная уверенность, почти властность. И Гурову понравилась подобная перемена в ней. Но что ответить на эти слова, которые он мог услышать лишь исключительно от матери, он не знал и просто пожал плечами. Но Мария удивила его еще больше.
— Зайдем ко мне, — предложила она, — я хотя бы промою рану. У тебя есть какие-нибудь антисептики?
Гуров просто опешил. И не только потому, что раньше и представить было невозможно, чтобы тихоня Мария пригласила бы кого-нибудь к себе в гости, да еще с подобным странным предложением. Но ведь она прекрасно знала, что у Гурова дома полно лекарств. О том, что его отец – известный хирург, знали не только соседи из подъезда, но и в ближайших домах. И уж, конечно, знала об этом и Мария, которая сама просила его отца о помощи с лекарствами.
— Нет, нет, не надо, — пробормотал он. – Оставь, ерунда это всё! Приду домой, промою. Всего-то какая-то царапина! Говорить не о чем.
— Как знаешь, — смирилась Мария и пошла вниз. Гуров двинулся следом.
На улице уже поливало, как из ведра. Темные струи дождя колыхались в белесом свете редких фонарей. Гуров сразу набросил на голову капюшон. Сверху тут же раздалась барабанная дробь крупных капель. У Марии не было капюшона, и она просто приподняла повыше воротник куртки. Прямо перед ступенькой порога скопилась глубокая лужа. Пришлось обходить ее по тонкому бордюру вдоль качающихся под натиском холодного ветра веток сирени. Гуров шел сзади и неожиданно для себя залюбовался уверенно балансирующей впереди тонкой фигуркой в неуклюжей куртке. Ветер бросал на нее всё новые пригоршни водяной дроби, но ни на йоту не мог отклонить от вертикали ее корпус. Гуров качался из стороны в сторону, пока наконец, засмотревшись на Марию, он не влетел ногой в глубокую лужу. Ботинок погрузился целиком, и теперь вода хлюпала в нем, неприятно холодя ногу.
От грязи перед помойкой было никуда не уйти, и они по очереди скакали по проложенным каким-то доброхотом доскам к вонючим контейнерам. Уже на обратном пути Гуров почувствовал стыд. Он подумал, что мог взять у Марии хотя бы пакет, не говоря уж о том, что стоило вообще оставить ее дома, раз он всё равно шел выбрасывать мусор. Захватил бы и ее тоже. Видел же, что у нее даже капюшона нет. А теперь она еще простудится после такой прогулки. Они забежали в подъезд, и Гуров встревожено взглянул на ее мокрую голову.
Она обеими ладонями стряхнула воду с лица и выжала длинные волосы. С них текло обильным потоком. Эти ее простые действия внезапно вызвали в его груди какую-то знакомую волнительную дрожь. Ему вдруг захотелось… (Что? Схватить ее за плечи и впиться губами в ее тонкий рот?) Он не посмел себе в этом признаться.
Дома Гуров, наскоро проглотив ужин, улегся на диван у себя в комнате и уставился в потолок. Что, собственно, с ним такое происходит? Почему вдруг эта невзрачная девчонка превратилась в огромный магнит, концентрирующий на себя все его мысли? В ком произошла перемена – в ней или в нем самом? Что такого нового он разглядел? В голове Гурова еще и еще раз прокручивались слова, сказанные ею в подъезде. На миг ему показалось… Из-за полумрака ее лицо было видно так слабо. Ему показалось, что это – вообще не Мария. Дикая мысль, но он на какую-то долю секунду вдруг подумал, что обознался. Что встретил объявившуюся, ранее не известную, ее родственницу.
Дождь успокаивающе шептал Гурову сладкие фразы. Осознание того, что Мария сейчас совсем одна в пустой квартире, приятно щекотало нервы. Его фантазия разыгралась, и он погрузился в сон под аккомпанемент подростковых эротических грез.
Этот парень из квартиры напротив глядел на нее сегодня как-то странно. Что-то она сказала не то. Или сделала. Он, получается, ее первое знакомство в этом мире. Алиса подняла голову и всхлипнула. Сколько еще будет таких знакомств.
Она сидела на замусоленной продавленной тахте, стоящей в углу комнаты перед старым едва бормочущим черно-белым телевизором, который, видимо, бывшей хозяйке просто не удалось никому продать. Обняв собственные (нет, нет, чужие!) колени и положив на них острый подбородок. Одна в целом мире! Пожизненная заключенная в городе, похожем на древние антиутопии. Барабанная дробь дождя о жесть подоконника за окном была гимном этого города, его торжественной песнью, но для Алисы она звучала реквиемом. Напряжение, с которым она вжималась сама в себя, пытаясь уйти от тоскливой действительности, заставляло звенеть ее мышцы. Наконец тело устало подчиняться приказам не замечающего его разума и заставило Алису расслабиться и прилечь, положив голову на обшитую свалявшимся бархатом маленькую подушку. Глаза Алисы закрылись, и она поплыла в мир без мыслей, отпустив поток слез, сдерживаемых мозгом. Они потекли сначала просто, как вода. Но горечь и обида заполняли тело всё больше, в груди поднялась волна тяжелого вздоха, вырвавшегося наружу, как рыдание, и Алиса уткнулась в подушку, вдохнув застарелый запах горелого табака. Ее тонкие плечи задрожали в такт рыданиям. Обреченность закручивала Алису внутрь себя всё быстрее и быстрее, как огромная воронка жгуче-соленой, словно ее слезы, воды. Пока сон не погладил ее разметавшиеся волосы своей милосердной рукой.
Ее разбудила оглушительная трель раздражающе громкого звонка огромного зеленого телефона. Несколько десятков секунд Алиса не могла понять, за что домроботник проводит над ней подобную экзекуцию, пробуждая таким нетактичным образом. Потом мысли пришли в относительный порядок, весь ужас положения предстал перед Алисой со всей своей очевидностью, и земное тяготение словно увеличилось в пять раз, настолько сильно ее придавило осознание своей несправедливой и страшной участи. Тем более, по сравнению с только что виденным сном.
Во сне она стояла на выпирающей в пропасть скале, где-то в центральной Африке, и наслаждалась крошечными освежающими брызгами, тучей висевшими в воздухе, поднимаясь над обрушивающимся с порога на порог водопадом. Поднимаясь в зенит, солнце немилосердно жгло Алисину золотую макушку, под ногами развертывалось темно-зеленое море африканских джунглей, водопад шумел весело и мощно. А Алиса спорила о чем-то важном с Аркашей Сапожковым. Она была в ударе, парировала все его выпады в сторону Алисиной важной идеи, мысли текли легко и быстро, подобно этому водопаду и, при этом, Алиса умудрялась не отвлекаться от созерцания красоты вокруг себя. Такое могло быть только во сне, когда совмещаешь одновременно два таких разных процесса. Ее мозг и ее чувства реагировали одновременно не мешая друг другу, что всегда было Алисиной давней мечтой. Во сне она осознавала, что достигла, наконец, этого состояния…
Телефон не успокаивался. Сперва Алиса была просто не в состоянии разговаривать. Пробуждение в тоскливом мире разбило сердце Алисы на тысячу мелких осколков. Из ее легких мог вырваться лишь стон. Потом она просто отказывалась встать. Ей не с кем и не о чем было говорить по этому телефону. Который всё не унимался. Замерев на минуту, он снова стал звонить. Звук настолько раздражал, что Алиса всё-таки решилась прекратить мучение собственных ушей и нервов, и подняла тяжелую трубку. Пару секунд перед ее внутренним взором бежали кадры старых фильмов. Она пыталась вспомнить, что надо говорить, в качестве приветствия. Это не понадобилось. Трубка заговорила первой…
Алиса долго тихо слушала, что говорит трубка, изредка вставляя односложные ответы. Она не пыталась возражать, не зная, что надо возражать в таких случаях, впрочем, ей было почти всё равно. Звонили уведомить ее, что завтра заедут за ней, чтобы забрать в приют. Сказали, чтобы она собрала вещи. Долго объясняли, какие. Всякий раз, когда ее называли чужим именем, Алиса невольно вздрагивала.
Она не ожидала, что это произойдет так скоро. Умом она понимала, что ей придется это сделать. Она должна чем-то питаться, ей нужны какие-то вещи, вроде бы еще надо платить за проживание. Никаких денег нигде в квартире она найти не смогла, кроме нескольких мелких монет. Ее знания и умения здесь никому пока еще не нужны. Конечно, она могла ухаживать за животными, в принципе, наверное, смогла бы даже работать медсестрой, но это было невозможно в мире с дискриминацией людей по возрастному признаку. Всякий раз Алиса натыкалась в этом мире на острые углы преград и заборов. Если она не согласится жить по законам этого варварского порядка, она, скорее всего, быстро погибнет.
«Ну и пусть! – мысленно махнула она рукой. – Всё лучше, чем отвратительное прозябание в их гадких приютах!»
Ей претила одна только мысль о том, что кто-то будет управлять ею, распоряжаться ее временем, указывать ей, что делать. Алиса давно считала себя вполне взрослой. Как она может подчиняться невежественным, грубым людям, понятия не имевшим о настоящих знаниях и культуре?! Которые обращаются с детьми, как с глупыми животными! Можно бежать. Но куда? Она не знала здесь ничего. Рано или поздно ее поймают, и тогда наблюдение за ней будет вдвойне невыносимым. Наверное, есть какие-то способы… Всегда бывают способы. В любом мире. Но Алисе они были не известны. И времени на изучение не было. Не у кого было попросить помощи. Она никого не знала. Кроме… Но он такой же подросток. Он ей не помощник. Ни в одно слово из ее рассказа он не поверит. Впрочем, может он-то как раз и поверит? Может ей повезет во второй раз, как тогда, полтора года назад? Может, у него влиятельные родители?
Алиса уцепилась за эту мысль, как за свою последнюю соломинку. Она буквально воочию видела ее, одиноко колышущуюся на берегу отвратительного болота, в которое она медленно погружалась. Один шанс из тысячи! Чтобы избежать хотя бы участи несчастной сиротки в доме милосердия.
На этот раз Гуров не замечал города. Не замечал прозрачности воздуха и унылых лиц с зонтами, наклоненными против порывов ветра, бросавшегося сегодня на людей с остервенением старого цепного пса. Гуров быстро, размашисто шагал по мокрым мостовым, с ходу перепрыгивая широкие лужи. Он не снял капюшона, играя с собой в игру, под названием «Человек в скафандре». Отгородясь от Москвы, Гуров стремительно плыл сквозь волны жителей, не замечая окружающего, и не замечаемый им. Его разум больше не пытался развязать сложные узлы чувств, наплетенных вчера его сердцем. Лучше он просто пойдет вдоль течения и посмотрит, что там ожидает его в конце. Несколько раз такой подход приводил его к правильному решению. Почему бы не попробовать и теперь? Тем более, что это так приятно!
Его предчувствие предсказывало ему скорую встречу с Марией. В конце концов, это и не было удивительно. Они жили на одной лестничной клетке, он всегда видел ее почти каждый день. Но теперь встреча с Марией имела для Гурова совсем другой, значительный смысл. Он внутренне убеждал себя в том, что дело в ней самой. Освободившись (как бы страшно это ни звучало) от своей опустившейся матери, Мария могла начать по-настоящему проявлять собственную натуру. Гуров от души ей этого желал. Он не хотел снова увидеть на ее лице всегда раздражавшую его покорную стыдливость. Гуров вспомнил о том, что скоро Марию должны забрать в детский приют, и его эйфорическое настроение несколько угасло. Впрочем, не все пути отрезаны. Если он очень захочет, он найдет ее. Если ему это понадобится. Если она настолько станет ему нужна.
Проходя мимо своего дома, он поднял глаза и вдруг увидел ее лицо в окне. Это было так приятно и неожиданно, что губы Гурова сами собой разъехались в глупой улыбке. Он совершенно непроизвольно остановился, взмахнул рукой в веселом приветствии, а потом сделал другой непроизвольный жест. Он внимательно огляделся, убеждаясь, что за ним никто не наблюдает. Гуров опустил голову и, покраснев, направился к подъезду. Он очень хорошо понимал, что стыдится собственных чувств к Марии. Он не хотел, чтобы о них узнали другие, особенно ребята из его двора. Гурова могут поднять на смех. Мария была слишком невзрачным персонажем и, часто, поводом для насмешек, в отличие от Гурова, всегда имевшего уверенный статус своего парня. «Белой вороной», даже из-за Марии, он становиться не собирался.
Она ждала его, приоткрыв дверь. Гуров был несколько разочарован, увидев ее при свете дня. Ему хотелось, чтобы изменения коснулись ее внешности более значительно. Но, когда она заговорила, Гуров об этом уже забыл. Ее голос зазвучал уверенно и с такой внутренней энергией жизни, что сразу заворожил Гурова:
— Привет! Слушай, у меня к тебе просьба. Не смог бы ко мне заглянуть на минутку? Тут требуется кое-что передвинуть, а у меня сил не хватает.
Первым его желанием было немедленно отозваться на просьбу. Но он удержался, соблюдая некоторую солидность своего статуса. Он не должен сразу бросаться за ней. Пусть она видит, что он спокойно принимает решения. Проявляя холодность, Гуров частенько добивался успехов у девчонок там, где другие не могли ничего сделать ни безумным нравом, ни подарками. Прием был прост, но срабатывал практически всегда.
— Ты знаешь, — сказал он раздумчиво, — конечно, я помогу тебе. Да, думаю, через пятнадцать минут я смогу зайти. Максимум, через двадцать.
— Прекрасно! – улыбнулась она. – Только вот еще что… Ты сахара немного не захватишь? А то я тебя даже чаем напоить не могу!
Ее тон был так спокоен и ироничен, при этих словах, что развитая интуиция Гурова взвилась на дыбы. Ему на мгновение стало жутко. Никогда, никогда не сказала бы Мария таких слов с таким олимпийским спокойствием на лице! Он просто кивнул головой и отвернулся к своей двери, гремя ключами, чтобы не выдавать своих чувств. Это просто какая-то ерунда! Не может человек ТАК измениться за три дня!
Мысли Гурова путались. У него даже появилось намерение не ходить к ней. Но потом он одернул сам себя, понимая, что поступит просто по-свински! В глубине души он хотел пойти, его, к тому же, стало мучить и любопытство. Он быстро переоделся, сбросив ненавистную школьную форму. Забежал на кухню, перехватить чего-нибудь из еды. Насыпал песку в прозрачный целлофановый пакет. Подумав немного, прихватил с собой еще с десяток шоколадных конфет из набора «Ассорти», лежащего на холодильнике. Мать будет ругаться такому опустошению, но он сейчас об этом вообще не думал.
Открыв дверь, он хлопнул себя по лбу и вернулся за ключом от квартиры. Потом вышел на лестничную площадку, прислушался к тишине подъезда, разбавленной глухим шумом города и быстро нажал кнопку звонка.
Она зачесала волосы назад, обнажив высокий лоб, под которым необычно ярко горели ее карие глаза. Она слабо улыбнулась, чем напомнила ему старую Марию, и жестом пригласила к себе.
Гуров был в этой квартире лишь однажды. Достаточно недавно, когда его попросил помочь отец. Мать была против, но отец настоял, сказав, что сын достаточно взрослый, чтобы понимать определенные вещи. Мать Марии — опустившаяся алкоголичка — частенько приводила подобных себе друзей, с которыми устраивала отвратительные попойки. Нередко после них кому-то из пьяной компании становилось плохо. Так как «скорая» чаще всего наотрез отказывалась выезжать по подобным вызовам, приходилось обращаться к отцу Гурова. Тот никогда не отказывал, даже если приходил домой после сложных операций выжатый, словно лимон. Обычно он ходил один, но тут, незадолго до того, как мать Марии увезли в больницу, он попросил Гурова помочь дотащить кого-то из ее друзей до кровати. Тогда Гуров достаточно насмотрелся на убогий быт этой квартиры. Засаленные обои, пол, усыпанный окурками, рыбьими скелетами и обрывками бумаг. Куча пустых бутылок в углу. Древняя, наполовину поломанная мебель, мерзкий запах, разбросанные в беспорядке вещи. Марию он не видел. Она или заперлась на кухне, или болталась на улице, не желая наблюдать сцену очередной грязной попойки.
Теперь Гуров был приятно удивлен. Почти что исчез застарелый запах квартиры. Как уж Мария умудрилась за это время так хорошо всё проветрить, он не понимал. Пол оказался практически чист. И хотя линолеум во многих местах был покрыт прожженными дырами и исчерчен черными полосами, но грязи на нем не было. Разбросанные вещи больше нигде не валялись. Гуров понял, что недаром увидел вчера вечером Марию с кучей выносимого мусора в руках. За эти дни она превратила квартиру, похожую на свинарник во вполне сносное жилье.
Гуров крутил головой, проходя в комнату и удивленно качал головой. Когда же он увидел отмытую до блеска газовую плиту и холодильник, то просто почесал в затылке. У него в голове не укладывалось, как это дочь может так разительно отличаться от своей матери.
— Ненавижу грязь! – твердо сказала Мария, как будто читая его мысли. – Пришлось здесь поработать немного.
— Немного?! – воскликнул Гуров. – Да ты просто Геракл какой-то! Такие Авгиевы конюшни разгрести за несколько дней — это надо умудриться!
— Брось! – махнула она рукой. – Не сидеть же было в грязи по уши!
— Да… — начал Гуров и осекся.
Конечно, он вовремя понял, что не стоит говорить: «Да, ты в ней столько лет сидела!»
— Спасибо! – сказала Мария, беря у него пакет с сахаром и конфетами. – Сейчас поставлю чайник.
— Ты говорила, надо чем-то помочь?
— Да, но давай чуть позже. Сперва сделаю чай.
Гуров только пожал плечами и уселся на стул со сломанной спинкой около окна. Он недоумевал, что вообще в этой квартире тяжелого можно передвигать. Разве что эти древние шкафы? Но, к чему?!
Через пять минут она принесла чай, быстро расставив посуду на стол, прикрытый застиранной скатертью. Гуров придвинулся ближе к столу, посмотрел на Марию, которая села напротив, на круглый белый остров стола, на высокие чашки с толстыми стенками, на почти черный чай внутри них, вдохнул терпкий запах чуть более крепкого, чем обычно, напитка, и ему неожиданно стало так уютно здесь, в этой убогой квартирке, на этом самом месте, что он едва не прослезился от нахлынувших чувств. Такого с ним еще никогда не было. Он схватился за огненную чашку, и боль от ожога вывела его из этого странного состояния. Гуров терпеть не мог показывать собственную слабость при окружающих.
— У меня к тебе один вопрос, — сказала Мария, — вряд ли ты, конечно, знаешь, но, может быть, ты подскажешь, хотя бы, у кого это стоит спросить.
— Да, я слушаю, — отозвался Гуров, наблюдая за ее тонкими, почти прозрачными пальцами, пытающимися попрочнее ухватиться за отбитый выступ, оставшийся от ручки бокала.
— Мне сегодня звонили из… приюта…
Ее слова заставили Гурова внутренне скривиться. Он попросту не хотел слышать этого слова. Всё, что ему было сейчас нужно – просто вот так сидеть с ней и смотреть на нее, смотреть на ее хрупкие, болезненные черты, слушать ее голос, так контрастирующий с внешним обликом, говорить в ответ что-нибудь забавное…
— Завтра меня хотят забрать отсюда.
Она словно решила добить его сегодня клинками раздирающих его душу новостей. Он так надеялся, что у него будет достаточно времени впереди, чтобы побыть с ней рядом подольше.
— Ты не знаешь, как этого избежать?
Фраза «как этого избежать» резанула его слух слишком уж взрослым оборотом речи. Он подумал, что Мария специально готовилась к этому разговору.
— Что ты имеешь в виду? – ответил он ей в тон.
— Я не хочу туда ехать!
Гуров вдруг разглядел всю глубину отчаяния, скрывавшуюся за этими ее словами. Неожиданно он понял, какого труда ей стоило вот так спокойно вести себя, не выдавая своих истинных чувств. «Она же хочет только одного! – поразился он собственной догадке. – Избежать своего переезда».
— У тебя больше нет совсем никаких родственников? Может, самые дальние?
— Нет, — она покачала головой, — точнее, я… не знаю.
— Как это? – удивился он.
— Я не знаю про дальних родственников, — повторила она, — просто не знаю, и всё.
— Плохо. Хотя я слышал, что они там сами узнают в таких случаях, есть родственники или нет. Ну, чтоб государству не брать лишнюю нагрузку.
Тут он понял, что сказал не то, что нужно и смутился.
— Да, я понимаю, — отозвалась она с грустной улыбкой, — я бы и сама не хотела такой нагрузкой быть. Хорошо, а нет каких-нибудь других способов?
— Ну, я не знаю. Если только тебя кто-нибудь удочерит. Но для этого надо всё равно сперва попасть в приют. Туда уже приходят люди, которые хотят кого-то взять. Только… это вряд ли. Понимаешь, берут, обычно, совсем маленьких детей. Ну, что б они не знали, кто их родители.
— Значит, я обречена?
Опять он удивился этому почти киношному обороту речи. Не найдя, что сказать, он просто пожал плечами.
Некоторое время они сидели молча. Гуров пил чай, опустив голову. Разговор принял тяготящее его развитие, и он не знал, как из этого положения выйти. Он видел, что Мария чем-то сильно взволнована, что она пытается овладеть собой, кусает губы, то берет чашку в руки, то снова ставит ее обратно. Сахару она накидала уже ложек семь, не замечая, что делает. Гуров молчал. Он не знал, чем ее подбодрить и предпочитал плыть по течению. Рано или поздно она должна принять какое-то решение.
Наконец ее прорвало.
— Понимаешь, у меня безвыходное положение! – почти крикнула она. – Я не знаю, что мне делать, и помощи попросить не у кого!
Гуров молчал и смотрел ей в глаза. Ее глаза распахнулись так широко, что, казалось, могли вместить в себя всего Гурова целиком.
— Ты фантастику любишь? – неожиданно спросила она.
Он задумался на несколько секунд над таким странным вопросом.
— Да. В основном.
— Это хорошо! Я тебе сейчас расскажу одну историю, а ты просто пей чай и слушай. Пожалуйста, не перебивай меня! Поверь, мне очень тяжело будет тебе рассказывать правду, но больше мне не с кем поделиться.
Гуров собрался внутренне. Просьбы его никогда не трогали. И молящий тон тоже. Но любопытство и предвкушение какой-то необычной тайны коснулось его души. Он почувствовал себя еще молчаливее, чем раньше. Он просто кивнул головой.
Она набрала в грудь побольше воздуха и стала рассказывать. Сначала это давалось ей нелегко. Ей приходилось подбирать слова, махать руками, опровергая саму себя, ежеминутно поправляться. Но потом она как будто вошла в какое-то внутреннее русло, и ее рассказ потек так плавно и свободно, будто она обрела не хватающую ей уверенность.
Гуров не отрывал от нее взгляда. Он испытывал блаженство, купаясь в ее энергии, льющейся стремительной рекой, наслаждаясь ее чистой образной речью, подкрепленной легкими жестами. Несколько раз она вскакивала с места, и принималась расхаживать по комнате, хотя Гуров был убежден, что видит она вовсе не эту убогую комнату, что ее внутренний взгляд наблюдает сейчас что-то совсем другое, что-то прекрасное и недоступное. Она пыталась что-то объяснять ему, какие-то сложные принципы, беспрерывно повторяя при этом: «Понимаешь?», забавно морща переносицу. Он просто кивал и улыбался. Ему было всё равно. Он уже давно видел, что Мария пропала, что перед ним абсолютно другой человек, такой внутренне богатый, что он не встречал за свою жизнь даже среди взрослых. Потом она останавливалась, выжидательно глядя на Гурова, но его улыбка была непроницаема, и она снова продолжала, расширяя свой рассказ, вытаскивая из памяти какие-то смешные эпизоды, описывая знакомых людей, места, где она когда-то бывала, странные технические приспособления. Казалось, она никогда не остановится. Но неминуемо рассказ возвращался к ее теперешнему печальному положению, и снова она задавалась удручающим вопросом, что же ей теперь делать.
Когда она, наконец, остановилась, Гуров продолжал улыбаться. У него в голове пылала такая яркая догадка, что он просто не мог удержать свои губы. Но он предпочитал об этом молчать. Сказал он другое:
— Я не знаю, что тебе посоветовать. Не скажу, что я не верю тебе. Но даже если и верю, изменить вряд ли что могу. Могу только спросить совета у родителей, но обещать, что они помогут – сложно. Они не связаны с… властью. Отец, конечно, человек известный, но как я ему объясню? А просто так он не поймет. Скажет, чтобы я не дурил.
Она опустила голову:
— Да, я так и думала. В любом случае, спасибо, что выслушал меня. Я не надеялась даже на это.
Гуров понял, что надо бежать. Сейчас она начнет плакать. Кем бы она ни была, но такое разочарование мало кто выдержит. Он не чувствовал стыда. Его догадка горела у него внутри, и пока он не примет решение на этот счет, он не будет считать, что бросил ее.
Алиса проводила его до двери, чувствуя внутри полное опустошение. Конечно же, он ей не поверил! Разве можно было даже на это надеяться? Она сама себя обманывала. Алиса закрыла дверь и опустилась прямо на пол, прижавшись спиной к черному дерматиновому покрытию. Конец всему! Несколько раз во время рассказа ей всё-таки казалось, что он верит. Но он был просто заинтересован так, как человек интересуется занятной байкой. И по-иному быть не могло!
Несколько минут она сидела, изнывая от обреченности своего положения. Потом медленно поднялась и пошла собирать вещи. Каждой из них предстояло быть пропитанной ее слезами.
Конечно, Гуров поверил ей. Поверил каждому ее слову. Он не мог представить себе человека, который бы не поверил. Она излила на него столько внутреннего огня, что он до сих пор находился под впечатлением от ее рассказа. Ошеломляющие перспективы отрывались перед его глазами. Неужели всё это будет?! Неужели он доживет хотя бы до части того будущего, которое должно было придти в их неуютный мир?!
Конечно, он верил! Черт возьми, разве могла Мария выдумать всё это?! Разве могла она изменить сущность настолько, чтобы превратиться в такого внутренне богатого человека? И потом… Все эти знания, все эти слова. Термины, которыми она сыпала так, словно преподаватель высшей математики по учебному каналу. Трансдукция, редукция, боже, еще какие-то митотические аппараты, герпология… Хорошо, что он иногда умел слушать, не слушая. Иначе, он за этими рассказами из ее научной деятельности не услышал бы главного. Того, что он обязательно должен был услышать! Она упомянула вскользь, но и этого было достаточно. Когда говорила о том, как ее отправляли в прошлое. О том, что с каждым таким путешественником в чужое тело отсылают устройство экстренной связи. На всякий случай. А с ней не послали. Не может ящерица им пользоваться, а изготавливать что-то специальное у них времени не было.
Единственный вопрос, который задал Гуров во время рассказа, осененный неожиданной догадкой, и который она тут же забыла, ответив мимоходом, был: «А как выглядит это устройство?» «Он очень удобный, похож на сомкнутую плоскую раковину. Открыть ее может лишь владелец», — был ответ. Это был еще один повод доверять ей. Самый вещественный и прямой.
Сейчас Гуров придет к ней и скажет: «Ты спасена!» Нет, просто она откроет ему дверь со следами слез на глазах, а он молча протянет ей устройство. Гуров просиял, представив себе ее лицо, когда она увидит свое спасение. Он вошел к себе в комнату. Странная темно-лиловая чечевица лежала на полке. Он взял ее в руки, и его взгляд вдруг омрачился.
Он отдаст ей устройство, и это правильно. Но что же произойдет потом? Об этом он сразу не подумал. Потом – всё логично. ТАМ услышат ее сигнал и придут ее забрать. Нет, не всё так просто! Если бы она была здесь в своем теле, тогда понятно. Но что они сделают в этой ситуации? Они должны поменять их с Марией местами. Вот что они должны сделать! Да, он спасет ее (как она себя назвала… Алиса), но он вернет обратно другого человека – Марию, которая чудесным образом спаслась из их мира. Она снова окажется в своей убогой квартирке с перспективой отправиться на следующий день в приют. Каким ужасным должно быть ее разочарование! Наверное, она будет думать, что дни, проведенные ею в будущем – просто ее бред, ее сумасшедшие иллюзии! Гуров вспомнил смущенный взгляд Марии, ее забитую улыбку. После такого разочарования она может не выдержать и покончить с собой! Так имеет ли право Гуров принять на себя такое решение?
Гуров заходил по комнате в тревоге. Его рассудок расщепился пополам. Он пока не понимал, что с ним происходит, не понимал того самообмана, которому он поддался. Он просто пытался уладить потоки мчащихся со всех сторон мыслей, опровергающих одна другую.
Гуров вспомнил рассказы его отца. Отец редко откровенничал, но иногда после тяжелого дежурства плотина, выстроенная им перед собственными воспоминаниями прорывалась, и тогда он начинал рассказывать. Тихо и зло. Не Гурову, конечно, матери, за бутылкой «Перцовки» или «Лимонной», которую, как правило, отец выпивал почти всю один. Мать всегда лишь слегка пригубливала, смотря на отца озабоченным взглядом. Гуров в эти моменты имел обыкновение сделать звук телевизора тише и тайком слушать.
Отец рассказывал много разных историй, почти всегда необычных, и всегда плохих по своему внутреннему содержанию. В основном, про собственных пациентов, иногда — про чужих. Рассказывал он как-то и про детей, которых привезли из одного детского дома. Приюта – как его предпочитали называть теперь. Этот рассказ вызвал у Гурова смешанные чувства омерзения, ужаса и странной похоти, от которой у него выступил румянец на лице. Он ушел в свою комнату, не желая больше испытывать себя самого.
Теперь, вспоминая слова отца, Гуров почти принял решение. Если ей не повезет, и она попадет в ТАКОЙ приют?! Что тогда с ней будет? Она пропадет там! Не сможет жить. Но… С другой стороны… Мария. Она же тоже может пропасть. В чем разница между ними? Ни в чем. Да, эта ему нравилась больше. Не то, что больше, она нравилась ему по-настоящему, пожалуй, так сильно, как никакая другая девчонка до этого! Но он же не может вот так. Взять и решить чью-то судьбу. Гуров ощущал, что не готов к этому выбору. Совершенно не готов! И не с кем посоветоваться. У него есть время на раздумья до завтрашнего дня. А потом он должен принять решение. Иначе может быть уже поздно.
Он сел на кресло и обхватил голову руками. Он разрывался изнутри под тяжестью выбора. Эта или та? Пока, наконец, не понял, что на самом деле его останавливало. Что получит он сам, отдав ей устройство? Ничего! Она – это волшебство в чужой коже – исчезнет, растворится навсегда. А взамен появится бледная, невзрачная личность, никак не интересующая Гурова. Если же он не отдаст, тогда… Ну, тогда она, конечно, попадет в приют. Но он не потеряет ее! Он сможет навещать ее там. Он попросит отца, чтобы тот проследил… Нет, это, пожалуй, лишнее! Отцу лучше об этом не говорить ничего. А то будут ненужные вопросы. Хорошо, в конце концов, может ей и повезет с приютом. Да, скорее всего, повезет. Он на это, по крайней мере, надеется. И у него будет своя тайна в этом мире – его тайна, такая таинственная, что не снилась всем разведкам мира! Он будет спрашивать ее, узнавать подробности о будущем, он сможет… да, конечно! Он сможет управлять своим будущим, зная, что произойдет.
От возможных перспектив у Гурова закружилась голова. Он посмотрел на зажатое в руке устройство связи почти с ненавистью.
«Как хорошо, что я не проговорился!» – подумал он с облегчением.
Если бы она узнала, она забрала бы его. Он не смог бы ей противостоять! Она такая сильная! Возможно, даже сильнее его отца!
Гуров вдруг улыбнулся. Нет, недаром вчера во время прогулки осень указала ему ее лицо. Еще чуть-чуть, и он мог бы пропустить эту тайну мимо себя. Навсегда потерять возможность, открывающуюся только раз в жизни. Ее бы увезли, и она пропала бы… То есть, не пропала, а просто… Просто исчезла! Исчезла из его жизни, вот!
И всё-таки… Всё-таки, Гуров еще не решил. Его душила мысль о ее мучениях. Она ничего здесь не знает, ничего и никого, она наивная, она тяготится каждой привычной подробностью их жизни! И она будет страдать еще больше, если… когда ее заберут. Гуров замотал головой, пытаясь отогнать сомнения. Но это было почти невозможным делом. Его привычный метод отбрасывания мрачных переживаний на этот раз не действовал. Теперь они были слишком сильны. Чем больше он пытался сосредоточиться на собственных радужных перспективах, тем больше застилали глаза картины ее страданий. Он слишком привязался к ней, даже за такой короткий срок. Теперь он не мог ни потерять ее, ни обречь на муки. Наконец Гуров нашел спасительную формулу. Она действовала безотказно в любых обстоятельствах. Если не можешь принять решение – отложи его до завтра.
Почти сразу в душе наступил покой! У него еще есть время. Завтра суббота – будет полно возможностей выбрать, как поступить. А пока… Пока Гуров открыл книжный шкаф и бросил устройство за ряд толстых томов.
Дождь прекратился ночью. Сильный ветер, дующий весь вчерашний день и всю ночь, разогнал тучи. На следующий день на темно-голубом осеннем небе сияло тусклое солнце. Оно заблестело в каждой мутной луже на улицах Москвы, отражаясь от мокрой жести крыш, от капель, висящих на голых ветках, от сырых корпусов автомобилей. Воздух наполнился замирающим дыханием уходящего года, последними проблесками его недолгой жизни.
Гуров проснулся рано. Он некоторое время наслаждался блаженством выходного утра, ворочаясь в теплой постели. Потом вспомнил о вчерашнем разговоре. Гуров не раз подмечал, что с утра он менее склонен поддаваться эмоциям и более прислушивается к собственному разуму. Так случилось и теперь. Рассудив здраво, Гуров понял, что решать тут нечего. Отдавать устройство девчонке из будущего нельзя! Слишком уж большая это для него будет потеря! Потом он не простит себе своего поступка. Гуров встал и направился в ванную.
Пока он приводил в порядок свои зубы и заспанную физиономию, пока с аппетитом поглощал омлет с обжаренными ломтиками любительской колбасы, приготовленный всегда рано встававшей матерью, пока пил чай с молоком в большой комнате перед телевизором, гнавшим какие-то детские мультфильмы, прошел целый час.
Когда Гуров вернулся в свою комнату и распахнул занавески, подставив физиономию выкатывающемуся из-за стены домов солнцу, он увидел во дворе перед их домом старый бежевый «уазик». «Буханку», как его называли по-простому. Неизвестно как, но он понял, зачем он приехал. Или, точнее, за кем!
Его мысли вдруг вновь заметались. Он ощутил подступающий к горлу комок. Неужели он так поступит с ней?! Он, Гуров, могущий одним только незначительным усилием спасти ее от ужасной участи?! И остаться ни с чем?! Нет!
Какой-то мужчина, в сером пиджаке, очевидно, водитель, вышел из подъезда с большой забитой хозяйственной сумкой и поставил ее внутрь «уазика». Гуров почувствовал, как ком, вставший в горле, не дает ему дышать! На его глазах выступили слезы. Он тихо зарычал от злости на эти неуместные слезы, на нее, на самого себя! Вцепившись в подоконник, он стоял, не в силах сдвинуться с места, и сходил с ума от внутреннего напряжения. Ему едва удалось справиться с этой волной, когда высокая пожилая женщина в маленьких очках и темной куртке вывела Алису из подъезда.
Алиса остановилась и взглянула на дом, ставший ей недолгим приютом. Гуров увидел ее обреченный взгляд, и его интуиция явственно и четко сказала ему, что он видит ее в последний раз в жизни. Но Гуров впервые не поверил своей интуиции. «Так есть хоть какой-то шанс! – твердил его разум. – Хоть какой-то шанс!»
Водитель закурил, прислонившись к машине. Пытка Гурова продолжалась. Он глядел на нее во все глаза, словно пытался увидеть сквозь внешнюю несовершенную оболочку ее совершенную душу. Его собственная душа завопила беззвучным, сотрясающим всё внутри криком: «Отдай ей! Отдай ей это! ОТДАЙ!»
Еще какая-то секунда, и он бы бросился к шкафу за странной раковиной, распахнул бы окно и с мучительным криком облегчения швырнул бы на побуревшую траву между кустами сирени это спасительное устройство. И увидел бы счастливый свет в ее потрясающих глазах!
«Нет! Нельзя! НЕЛЬЗЯ!!!» – завопил мозг, в тщетных попытках избавиться, сбросить с себя груз ненужных ему переживаний.
И именно мозг, как любой мужской мозг, среагировал быстрее, найдя кажущийся спасительным выход.
Гуров кинулся в коридор, к большому деревянному ящику в углу между стеной и шкафом для обуви. Его отец владел не только хирургическими инструментами. В свободное время он часто мастерил из дерева всякие полезные разности. Гуров перевернул ящик набок, со страшным грохотом вывалив инструмент наружу. Его выбор длился всего мгновение. Радость пылала в его взгляде, когда он ворвался обратно в свою комнату, не обращая внимание на гневный возглас матери, услышавшей его грохотания в коридоре. Радость избавления! В руке Гуров держал тяжелый плотницкий молоток. Он должен покончить с этим раз и навсегда. С этим ужасным выбором! Пока устройство будет лежать у него в шкафу, он никогда не узнает покоя, всегда соблазняемый желанием возвратить его по назначению!
Гуров вытащил стопку книг одним быстрым движением и достал аппарат. Возможно, эта штука и прочная, но не настолько, чтобы выдержать удар пятикилограммового молотка! Гуров бросил на пол снятые со стола тисочки, используемые для его страстного увлечения моделизмом, завернул вибрирующую чечевицу в рубашку, чтобы не выскальзывала, положил ее на тиски, поднял молоток высоко над головой и ударил, что было силы! Он услышал странный тонкий писк на грани слышимости, и это было всё. Гуров развернул рубашку и дотронулся до аппарата. Он больше не вибрировал. Края сплющились и стали плоскими. Ком, сжимающий горло, наконец отступил. Всё было кончено! Гуров заплакал, облегченно и горько. В этот момент водитель за окном повернул ключ зажигания.
Гуров обернулся и увидел в проеме двери отца, смотрящего на него странным долгим взглядом.
2001.
Pinhead.
ASBooks.
———————-
Но кажется, что это лишь игра
С той стороны зеркального стекла;
А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего:
Сегодня тот же день, что был вчера.
БГ.
— Самое странное?..
Андрей пошевелил густыми бровями.
— Может лучше самое смешное, Алиса?
— Нет уж! Смешного мне и так понарасскажут завтра в школе. Шутников вокруг меня в последнее время – вагон и маленькая тележка.
— Странное… Не далее как вчера…
Он прервался. Его продолговатое лицо затуманилось. Он как будто на глазах уплывал куда-то, медленно, но надежно. Его губы сами собой зашевелились, словно он пытался проговорить про себя то, что блуждало в его голове.
— Вчера? – неожиданно резко произнесла Алиса, чем вывела его из состояния оцепенения.
— Н-ну, да, — протянул он. – Впрочем… я и сам… Сам не знаю…
— Да что с тобой?! – воскликнула Алиса. Ее глаза широко раскрылись, демонстрируя неподдельное удивление. Таким своего взрослого друга она еще никогда не видела.
Этот человек был физиком-аналитиком. Хорошим физиком-аналитиком. В институте внешних структур. Четкость работы его мозга была в семье Селезневых притчей во языцах. «В тебе, Андрей, больше логики, чем в теореме Пифагора», — любила шутить мама Алисы.
— Я похож на сумасшедшего? – вдруг спросил он.
— Что? – не поняла Алиса. – Ты о чем?
— Тебе не кажется, что я с последнего визита к вам стал каким-то… другим?
— Нет. Только когда вот так начинаешь… — Алиса не могла подобрать иного слова кроме «мямлить», но не решилась сказать его человеку почти втрое старше ее самой.
— Хорошо, — почему-то совершенно без всякого облегчения в голосе произнес Андрей.
Алиса ощутила ни на чем не основанное беспокойство. Здесь была какая-то странность. Она ее внутренне чувствовала, но не могла обратить в слова. Когда Андрей спросил ее, не изменился ли он, она не сразу, но очень медленно начала осознавать, что какие-то детали скользнули мимо ее взгляда, поначалу как бы совершенно не привлекая внимания. Теперь она начала мучительно пытаться вспомнить несоответствия, машинально отмеченные ее мозгом, но проигнорированные сознанием. Она еще раз внимательно взглянула на Андрея, но увидела лишь его черную шевелюру, глубоко посаженые глаза, узкий рот и нос. Стоячий воротник его куртки, казалось, подпирал со всех сторон тонкую шею. Это был тот же обычный тридцатипятилетний Андрей Кравцов, выглядевший таким же упрямо спокойным и сосредоточенным. Ну, может, слегка более уставшим. Что, впрочем, не было удивительным. После находки «Ч.Ч.ВИЦ.» весь его институт работал, не покладая рук.
Тот же Андрей, вплоть до значка на лацкане и синеватых от упрямой щетины щек. Казалось, беспокойству не из-за чего было появиться. И всё же оно точило внутри Алисы причудливые ходы. Она вдруг поняла, что не случайно попросила рассказать что-нибудь странное.
Хотя… Ни одного дня не проходило в лаборатории, где Андрей работал, без того, чтобы не заниматься странными вещами. По крайней мере, с точки зрения стороннего наблюдателя.
— Да у нас всё странно, — как бы подтверждая мысли Алисы, сказал Андрей.
— Нет, — она махнула ладонью, — это не то. Я знаю, чем вы занимаетесь, и знаю, насколько всё это странно поначалу. Когда к вам что-то привозят. Но я знаю результат, чем это потом заканчивается.
— Угу, — подхватил Андрей с улыбкой, — мы развенчиваем все загадочные непонятности.
— Вот-вот. Работа у вас такая. Возиться с артефактами.
— С якобы «артефактами», Алиса, — продолжал улыбаться Андрей, — на самом же деле… — он развел руками. — Увы!
— Знаю, знаю, — покачала головой Алиса, — по-твоему, необъяснимых явлений вообще не бывает. Всё можно измерить, проверить, описать и разложить на составляющие.
— Что я с успехом…
— … и делаешь, — завершила за него Алиса, — именно поэтому я спросила у тебя о чем-то, что действительно поставило тебя в тупик. Ставит до сих пор. Если уж это будет из твоих уст, то должно быть действительно, по-настоящему странно.
Алиса ждала очередной шутки и ухода от темы. Такого великого скептика она больше не встречала. Опыт его работы с главными загадками Галактики убедил Андрея, что чудес не бывает. «Этот человек способен разгрызть орех любой прочности», — услышала она как-то о нем в интервью директора института внешних структур.
Однако теперь он сидел с отсутствующим видом и смотрел на Алису так, словно она была сделана из воздуха.
— Что ж, — наконец вымолвил он, — пожалуй, я поделюсь этим с тобой. Во всяком случае, ты, быстрее, чем кто-либо другой поверишь мне.
Он посмотрел на Алису так, словно был ей благодарен за то, что она задала свой вопрос. В этот момент она догадалась, что Андрей, возможно, за этим к ней и пришел. Может быть, это был неосознанный поступок, но, видимо, ему надо было с кем-то поделиться какими-то вещами. Очевидно, странными, если уж он спросил, не похож ли он на сумасшедшего.
— Может дело во мне самом, но «Ч.Ч.ВИЦ.» – это главное! Понимаешь? Главное обстоятельство. Когда его привезли, я подумал… Я сразу почему-то подумал, что с ним не всё в порядке.
— Откуда…
— Да, да, откуда я мог знать, если увидел его первый раз в жизни. Ниоткуда. Но я так подумал, как только его увидел. Он лежал за границей карантинной зоны в центре лаборатории и больше всего напоминал груду камней. Помню, как кто-то из столпившихся вокруг обронил: «Старая, наверно, штукенция».
— Да уж, — промолвила Алиса, — лет тыща, так ведь?
— Сто пятьдесят тысяч, Алисочка. Это, по меньшей мере.
— Сто пятьдесят?! А репортеры твердили другое.
Андрей досадливо махнул рукой. Его жест был красноречивее любых слов.
— Забудь! Забудь всё, что ты знала до этого. Мы ковыряемся с ним уже почти полгода, и никто не знает о «Ч.Ч.ВИЦ.» больше нас.
— Верю, верю.
— Так вот. Собственно, я к тому веду, что сразу начал подозревать что-то неладное. Видишь ли, нас несколько раз пытались обмануть. Я имею в виду нашу лабораторию. Знаешь, находятся еще такие люди, которые пытаются прославить свое имя, создавая ложные сенсации, вроде той, с говорящими атомами в прошлом году. Когда я вижу что-то подозрительное, во мне как будто-то срабатывает нечто вроде предохранителя. Я начинаю присматриваться ко всему вдвое тщательней. Но в случае с «Ч.Ч.ВИЦ.» было по-другому. Я не мог сомневаться в том, что они когда-то функционировали. Это никто не сможет отрицать. Но странное чувство неправильности не проходило. Подделка, естественно, тоже была исключена. Нельзя же подделать то, что никто не знает, как оно было сделано. Никто даже не знает, что это, собственно говоря, такое. Общеизвестны только результаты.
Всё началось неделю назад, когда он заработал.
— Заработал?! – поразилась Алиса. – Сам? На Земле? В лаборатории?
— Не сам, конечно. Это я… Я его заставил работать.
— Ты решился на это? Неужели ты смог?
— Я просто… не удержался, когда понял, что у меня есть шанс попробовать… что из этого выйдет.
— И? Что произошло?! – Алиса даже привстала с дивана, не сводя с Андрея напряженного взгляда.
— Собственно говоря, практически ничего. Я ничего не увидел. И приборы все, как один молчали.
— Странно. А ты уверен, что он заработал?
— Ну, разумеется. Можешь мне поверить. Дело в том, что я частично разобрался в структуре. Правда, я до сих пор ни черта не понимаю ни принципов действия, ни предназначения. Я даже не могу определить, что передо мной – рукотворный объект, существо или природное явление. Да и никто не может. Но взаимосвязь частей в целом и особенности структуры – вот тут я кое-что понял. Потому и смог заставить работать. Но, как я и сказал, совсем ничего не произошло. Стоит ли говорить, что я был огорчен… Хотя нет! Скорее я был обеспокоен. Не знаю почему. Мне показалось, что я совершил ошибку. Знаешь, бывает такое чувство, что внутри как будто что-то падает… Я не умею этого объяснить.
Алиса в этот момент впервые подумала, что Андрей, вполне возможно, очень утомлен напряженной работой. Уж чем-чем, а мнительностью он никогда до этого не страдал. Именно абсолютная уверенность и позволяла ему часто добиваться результата там, где все прочие отступали.
— Помнишь, я сказал тебе, что как только в первый раз взглянул на «Ч.Ч.ВИЦ.», то подумал о каком-то несоответствии. Как будто-то чего-то недоставало. И теперь я стал бояться, что включил сломанный «Ч.Ч.ВИЦ.». Впрочем, слово не совсем подходит. Но я не могу сказать по-другому.
Я стоял один посреди огромной лаборатории, освещенной лишь компьютером и колонками приборных индикаторов, и чувствовал себя потерянным. Может быть, в первый раз в жизни, с тех пор как мне минуло десять. Купол лаборатории терялся в полутьме, дальняя стена с дверью тоже полностью растворилась во мраке, аппаратура слабо гудела, абсолютно равномерно, не меняя тона ни на секунду. Я впервые за всю мою практику работы здесь просто вот так стоял и смотрел вокруг себя, ничего не делая, не думая почти ни о чем. А рядом возвышалась эта странная груда неизвестно чего, которая не хотела ни на что реагировать. Молчала, как будто… Как будто была мертвой. Удивительно, но именно это сравнение отчего-то лезло мне в голову, так что я даже почувствовал себя не совсем уютно.
— И что же? – спросила Алиса, которую совсем не интересовали метафоры и ощущения. – Ты чего-нибудь добился?
— Не знаю, можно ли назвать это так…
— Андрей, ну не тяни же! – воскликнула Алиса. – Я просто вижу на твоем лице какую-то тайну. Рассказывай скорее.
Он почему-то встрепенулся.
— На лице? Что такое на моем лице? Что ты видишь?
— Андрей! Ты меня разыгрываешь, что ли?
Он слегка успокоился, но взгляд его оставался напряженным. Он продолжил говорить, и, чем дальше он продолжал, тем угрюмей и тише звучал его голос, так что в конце Алисе пришлось буквально напрягать слух.
— У нас в соседнем помещении есть большое зеркало на стене. Практически в рост человека. В лабораторию в верхней одежде нельзя, поэтому люди переодеваются и… В общем, зеркало, как зеркало. А я просто тогда махнул рукой на всё и пошел домой. Я был так раздосадован, ты не представляешь! Не знаю, как я обратил внимание… Я буквально выбегал тогда из лаборатории, уже дверь распахнул. Но это меня заставило остановиться. Как будто мелькнуло что-то в голове, чей-то возглас. Я остановился и огляделся по сторонам в этой самой нашей прихожей. И тогда уже сам издал свой собственный возглас. Я смотрел на зеркало и глазам не верил. Меня в нем НЕ БЫЛО.
Я подошел вплотную. Там отражался коридор нашего института через распахнутую мной входную дверь. Белые стены и потолок казались серыми из-за слабого дежурного освещения. Время было уже совсем поздним, практически ночным. Всё было на месте – небольшое помещения с несколькими шкафами, дверь, поворот коридора в нескольких метрах впереди. Не было только меня. Признаться, в первый момент я был, как в тумане. Постепенно стало проникать ощущение какой-то холодной жути. Мне вся картина показалась прямо-таки сюрреалистичной. Я дотронулся до своего лица. Нащупал нос, глаза, ощутил даже капельку пота на лбу. Потом поднес руку к зеркалу. И вот тут я понял. Моя рука прошла свободно внутрь, так, словно это было никакое не отражение, а самый настоящий дверной проем. Я отдернул руку так, словно обжегся. Несколько секунд в моей голове царил полный хаос, я почувствовал, как слабеют колени. Потом целый вихрь предположений пронесся через мои мысли, и я пришел к единственному разумному заключению.
— Он работал! – воскликнула Алиса.
— Да! Именно. Он работал.
— Ты оставил его работающим и решил уйти из лаборатории?
Андрей улыбнулся. Алисе его улыбка показалась слегка снисходительной.
— Его нельзя остановить. В этом всё дело. Он начинает работать, нечто происходит, потом он сам прекращает деятельность. Пока не окончено действие, «Ч.Ч.ВИЦ.» не остановится.
— Теперь я уже желаю знать, что он, хотя бы приблизительно, из себя представляет? Я видела кое-что по телевизору, но новостной подбор у нас маловат. Всё никак не можем подписаться на Академические Новости.
— Алиса, я не знаю. Никто толком ничего не знает. Есть масса всяких разных гипотез, не все из них безнадежны, но ни одной хотя бы приблизительно ответившей на все вопросы.
— Если это ты говоришь…
— Да, как ни странно. Я полгода потратил на изучение, потому и уверен – никто толком так ничего и не объяснил.
— Это же всё на Менате, кажется, началось?
— Да, но это просто первая находка. Потом обнаружили подобные вещи еще в нескольких местах. А родины явления так и не нашли до сих пор. Черт его знает, откуда это взялось! Сначала приняли его за тотемный знак. Но быстро поняли, что это не просто куча минералов… Что это вообще не минералы. Что это… неизвестно что. Просто структура, похожая на вещество. Оно не подчиняется ни одному закону и не имеет физических характеристик как таковых. Потому что их нельзя измерить. Оно их не меняет, у него их просто нет. К примеру, если ты попытаешься оторвать его от земли, то ничего у тебя не выйдет. Тяжеловато окажется. В то же время, на опору оно не давит. Понимаешь? Масса вроде бы есть, а веса нет. Хотя это всё только слова. Да и не это самое главное. Я видел, если и не такие странные, то хотя бы подобные штуки. И дырки в пространстве, закамуфлированные под платяные шкафы, и пирожки с повидлом завернутые в пятое измерение, которое было у них искусственно вытянуто, отчего его не то, чтобы откусить… Вообще неразрушимыми их делало. Тут как раз наоборот. Ты можешь взять «Ч.Ч.ВИЦ.» и обычной кувалдой разнести на части. Ты можешь разрушать его и дальше, только вот занятная вещь – никаких атомов ты в нем не найдешь, сколько ни старайся. Никаких элементарных частиц в помине нет. Просто пустота! На микроуровне. А на макро… Пожалуйста, любуйся — вот он. Ерунда какая-то! Если бы я верил в волшебство, ей богу, решил бы, что его наколдовали.
Алиса хмыкнула.
— Если бы могли еще понять назначение сего объекта. Можно бы было оттолкнуться хотя бы от этого. А то ведь ничего хорошего обычно не происходит. Только сильно портится связь, как дальняя, так и местная, и у некоторых людей начинаются галлюцинации. Довольно необычные, надо сказать.
— Вроде тех, что у тебя были в лаборатории?
— Нет, — нахмурился Андрей, — не совсем.
Он вдруг опять замолчал, как будто пытаясь снова что-то лихорадочно вспомнить. На этот раз Алиса не стала торопить его. Пускай человек соберется с мыслями. Он наконец-то, кажется, подошел к самому интересному.
— Да… Так вот как я сказал, я дотронулся до зеркала, но моя рука прошла насквозь.
— И что? Ты обратился к врачу? Или просто ушел?
— Нет, в тот момент мне это даже не пришло в голову. Понимаешь, в тот момент, не смотря на то, что я всё понимал, мне вовсе не казалось, что это галлюцинация. Я отдернул руку. Потом снова протянул вперед, ожидая, что вот сейчас наваждение рассеется. Однако всё оставалось по-прежнему. И тогда я решил… Решил войти… ну… туда.
— В зеркало?
— Ну да. Я же ученый, Алиса, меня вдруг охватило неудержимое любопытство. Буквально детское любопытство.
— Тоже мне «Алиса в Зазеркалье», — засмеялась Алиса.
Андрей улыбнулся, удивившись совпадению, но улыбка почти сразу угасла. Он продолжил:
— И я поднял ногу и перенес ее… внутрь. Я думал, что сейчас вот-вот она провалится в пустоту. Ну, там же ничего не должно быть, понимаешь? Я так думал. Но там был пол. Точно такой же, как и в комнате. Признаюсь, я долго не решался войти туда… целиком. Почему-то вдруг пришла мысль, что как только я войду, выход исчезнет, дверь закроется, и я останусь там навсегда. Меня прямо-таки всего затрясло от страха. Как будто кто-то истерически подсказывал, что не стоит этого делать. Но я же ученый, — повторил Андрей и потер подбородок.
— Чаю хочешь? – спросила Алиса, — с пирожками.
— Нет. Спасибо. Не хочется. У меня с тех пор аппетит пропал напрочь.
— Что же ты там такого увидел?
Он бросил быстрый взгляд на Алису, словно снова колеблясь, рассказывать или нет, потом покачал головой и продолжил.
— Короче говоря, я вошел в зеркало. И сразу обернулся. Я увидел там то, что и ожидал увидеть. Там на точно такой же стене висело точно такое же зеркало. Я протянул ладонь и снова ощутил, такое же странное чувство нереальности, когда она прошла сквозь стекло. Так, как будто я был не внутри, а снаружи, понимаешь?
Убедившись, что обратная дорога не отрезана, я развернулся и вышел в коридор. В тот коридор. Который отражался в зеркале. Только он был… наоборот. Ну, нечетные цифры на дверях были справа, а четные слева. Как и должно было быть в отражении. У меня даже слегка голова закружилась. Я медленно пошел по коридору, а в ушах гудел шум лаборатории за спиной. Это был единственный шум, других звуков не было вообще, помнишь, я говорил тебе, что остался допоздна, и в институте не было никого. Я дошел до конца коридора. Лифты и дверь на лестницу были там, где и должны были быть, только на противоположной стороне друг от друга. Я повернулся обратно. Мне пришла в голову мысль заглянуть в комнаты.
У меня есть электронный ключ от некоторых кабинетов и лабораторий, помимо тех, в которых я работаю. Я поднес его к ближайшей к лифту двери. Там должен был находиться кабинет моего помощника. Но дверь отказалась открываться. Я попробовал еще раз. Без результата.
— Наверное, ты забыл, что двери поменялись местами, — предположила Алиса.
— Нет, не смотря на то, что я был в рассеянных чувствах, я же видел номера на дверях. После нескольких неудачных попыток мне пришло в голову, что дело, возможно, в ключе. Возможно, код должен был быть набран наоборот. Зеркально.
— А! – воскликнула Алиса. – Действительно.
— Ты находишь удачной эту догадку?
— Конечно.
— Всё не так просто, как кажется… — пробормотал Андрей и вновь нахмурился, — впрочем, это не совсем относится к делу. После того, как я понял, что в комнаты мне не проникнуть, я решил спуститься на первый этаж. Признаться, меня охватило желание взглянуть… наружу. Я никак до конца не мог поверить, что всё это настоящее. У меня в голове раздвоилось. С одной стороны все чувства свидетельствовали реальность, а с другой – ум твердил, что этого не может быть.
Я спустился по лестнице. Не знаю почему, но на лифте я поехать не смог. Просто не хватило сил себя заставить.
— Почему?
— Понимаешь, это трудно объяснить. Вроде бы там не было никакой опасности. Более того, обстановка была для меня привычная, бытовая. Ну, если, конечно, исключить эту перевернутость… вывернутость. Я в институте провел, наверное, больше времени, чем у себя дома. Но именно эта привычность и пробуждала неясный страх. Он постоянно висел внутри фоном, как шум из лаборатории. И хотя я человек, в общем-то, не пугливый, но это постоянное гнетущее опасение давило на психику довольно сильно.
Когда я спустился на первый этаж и вышел в вестибюль, то с удивлением обнаружил, что почти привык к тому, что право – лево, и наоборот. Мне даже потребовалось некоторое усилие, чтобы восстановить в памяти статус-кво. Разум человеческий – гибкая штука. Однако меня волновало сейчас только одно – увидеть, что снаружи.
Ты же была у нас в институте. Видела, какое там шикарное окно на первом этаже. Я подошел вплотную и чуть вскрикнул от страха. В вестибюле был полумрак, а прямо за окном яркий фонарь. Поэтому первым, что я увидел, было мое собственное отражение. Это было так неожиданно, что в первый момент я подумал, что кто-то прислонился с другой стороны к стеклу. Я отпрянул, а потом даже улыбнулся. Надо же до чего довело меня внутреннее напряжение.
Снаружи была стоянка. Самая обычная флаерная стоянка. Там, где она и должна быть. Сразу за ней темнели кроны лип, и в их очертаниях я тоже не увидел ничего необычного. Издалека на грани слышимости сквозь звуконепроницаемое стекло доносился шум города. Если бы не недавние воспоминания, я бы подумал, что я не покидал собственный институт. Ничто не указывало на какие-то изменения. Мой флаер стоял на стоянке, клумбы около ступенек пестрели анютиными глазками, фонарь рассеивал голубоватый свет.
— Так ты всё-таки рискнул выйти наружу? – всплеснула руками Алиса.
— Нет. Дело в том, что тут произошло нечто… Я даже не знаю, как я смог это понять. Я уже направился к выходу. Мне вдруг неудержимо захотелось вдохнуть ночного воздуха. Я говорил тебе, что постоянный шум из лаборатории, дверь в которую оставалась открытой, висел над безмолвным институтом. И вот, когда я уже собрался выйти, я понял… Я понял, что шумовой фон исчез. Более того. Что я уже несколько минут его не слышу. Я похолодел и как будто прирос к полу. Гудели анализаторы. Если гудение пропало, это могло означать только одно…
— «Ч.Ч.ВИЦ.» выключился, — промолвила Алиса. Её глаза распахнулись и сияли, как два чудесных бриллианта.
— Именно. Именно, Алиса. Меня это повергло в дикий ужас. Я помчался наверх, мне показалось, что я преодолел расстояние до лаборатории за несколько секунд. Мои опасения подтвердились. Я увидел анализаторы в режиме ожидания и пульт центрального компьютера, выдающего результаты буквально в бешеном темпе. Пластикаты с тихим шорохом, сползали из щели принтера, не успевая до конца застыть на лету. Я обернулся и посмотрел на «Ч.Ч.ВИЦ.» с нескрываемым ужасом. Мне казалось, он смеется надо мной. Я понял, что надо бежать. Бежать, сломя голову обратно. Я бросился в раздевалку, к большому зеркалу. Объятый ужасом с головы до ног я бросился внутрь, в спасительную глубину собственного мира и… с размаху налетел на холодную поверхность стекла!
— И что было дальше? Как ты выбрался?! – воскликнула Алиса.
— Дальше я ничего не помню. Меня нашли мои сотрудники, лежащим на полу в раздевалке. Уже под утро. Под глазом сиял довольно красочный синяк, а на лбу грандиозная шишка.
— Ясно, — кивнула Алиса.
— У меня такое ощущение, что ты разочарована.
— Ну, я-то думала, тут действительно что-то интересное, но ведь кроме галлюцинаций, никаких результатов-то и не было.
— По сути, так. Видимо, я потерял сознание перед зеркалом и грохнулся на пол. Но я бы не сказал, что результатов нет совсем. Во-первых, компьютер и вправду выдал гору информации, и, скорее всего, мы извлечем из нее на свет божий кучу полезных данных. Сейчас едва ли не весь наш институт над этим работает. И, уверяю тебя, я таки раскрою и этот секрет. Рано или поздно, обязательно.
Однако ж этот эксперимент доставил мне ряд неприятностей. Не говоря уж о том, что моя физиономия изрядно пострадала, я еще и вынужден был поменять электронный ключ. Представляешь, он отказался работать. Словно бы я и вправду где-то побывал, и это так пагубно на него воздействовало. Думаю, это последствия работы «Ч.Ч.ВИЦ.» Впрочем, это мелкие неприятности, а вот что меня действительно волнует, так это постоянное чувство неоправданной тревоги. Оно так и не исчезло, хоть «Ч.Ч.ВИЦ.» давно не работает. Я к врачам по таким поводам обращаться не привык, но, видимо, всё-таки придется. Я уже достаточно измучился за всю эту неделю. Порой кружится голова и кажется, что вот-вот куда-то упаду. И буду непрерывно падать-падать… В глазах двоится иногда. Сны снятся очень странные. Вчера снилось, что я как муха лазаю по огромному белому потолку, а люди, мои коллеги, ходят внизу и не замечают меня.
Алиса взглянула на Андрея и вдруг поежилась. Как будто бы ей самой передалось это чувство странной тревоги.
— Возможно, тебе действительно стоит обратиться к врачу.
— Да. Я так и сделаю на днях. А сейчас… мне пора идти. Завтра еще предстоит куча работы.
Он попытался ободряюще улыбнуться, но улыбка вышла вымученной.
Алиса проводила его до двери и пошла готовить себе чай. «Интересная всё же у него работа», — думала она, доставая персональную чашку с надписью «Лисе-Алисе от Самого Надежного Парня», подаренную Пашкой на день рождения год назад.
«Интересная»… Чашка полетела на пол. Алиса не обратила на это внимания. Она поднесла руку к горлу. Её внезапно замутило от догадки, буквально озарившей мозг. Она ухватилась за краешек стола, чтобы не упасть, потому что голова вдруг закружилась, а ноги стали как ватные. Кухня поплыла перед глазами, Алиса открыла рот, но не смогла издать не звука.
«Значок… Значок!!!» – пыталась выдохнуть она, вспомнив, какая мелочь не давала ей покоя с того момента, как пришел Андрей. Значок родного института, с которым тот никогда не расставался. Он висел… на правом лацкане. На правом, а не на левом, как всегда. Весь странный рассказ гостя пронесся в ее памяти, складываясь в сюрреалистическую картину
«Он никуда, никуда не выбрался! Он остался там… Здесь. О боже! Как такое возможно?!»
И если это действительно была правда, и тот, кто приходил к ней сегодня, пришел на самом деле из глубины за зеркальным стеклом, то что же такое мир, который ее окружает? И кто же тогда она сама?
Pinhead.
ASBooks.
2002, 2007
———————-
Несколько слов от автора.
Этот рассказ от начала до конца навеян потрясающей песней «I’m Deranged» Дэвида Боуи, с саундтрека к фильму «Потерянное шоссе». Рискую быть обруган меломанами — знатоками его творчества, но по моему сугубо субъективному мнению эта песня – возможно, лучшее, что Боуи исполнил за всю свою жизнь.
За время написания рассказа я прослушал ее в двух разных вариантах в общей сложности около пятидесяти раз и не могу сказать, что от этого она стала мне нравиться меньше. Я лишь хотел бы скромно предложить читателю, великодушно решившему потратить свое драгоценное время на прочтение ниже приложенного текста, послушать сперва «I’m Deranged» и, быть может, он так же, как и я проникнется той бесконечной тоской по грядущему, что внушает мне каждый прожитый день.
——
Проникновение всегда напоминало Дмитрию сумасшедшую езду по шоссе без разметок и обозначений. Он и в жизни любил эту езду, отдавая предпочтение ей, как наиболее удачному способу получить свою дозу необходимого ему безумия без усилий со стороны собственной души. Особенно тогда, когда очередной клиент выматывал его целиком, заставлял чувствовать себя выжатой губкой и не оставлял никакой возможности воспользоваться даром.
Рутман был как раз из таких. Его хищные глаза проницательной куницы ловили любое движение губ, жадно следили, чтобы ни одно слово, ни один жест не был упущен. Ему невозможно было лгать. Да он никогда ему и не лгал.
Рутману оставалось жить всего два года. Дмитрий описал ему его смерть на первом же сеансе. Он ждал, что Рутман, должно быть, воспримет весть с выдержкой, судя по тому, что ему рассказывали об этом человеке. Но он не ожидал, что Рутман будет настолько хладнокровен. Более того, казалось, что он даже слегка рад такому удручающему сообщению. Как будто разрешились все сомнения. Раз и навсегда. Наконец-то будущее больше не пугало Рутмана.
С тех пор он стал постоянным клиентом. Ему следовало столько успеть за оставшееся время. Подпольная империя Рутмана была слишком хлопотным делом. Он навещал Дмитрия регулярно, каждую неделю, и регулярно требовал подробностей о предстоящих днях. Иногда даже приводил детей. Казалось, такие клиенты должны были только радовать Дмитрия. Ему не нужно было заботиться о том, чтобы искать себе средства для поддержания собственной безумной жизни. Щедрость теневых магнатов не знала границ и могла окупить любые траты. Но такие люди, как Рутман, чересчур кропотливо подходили к вопросу, требующему более творчества, нежели прагматизма. Дмитрий же любил, чтобы оставалась еще толика свободного полета. Чтобы можно было слегка отклониться от заданного курса. Захватить своим видением какие-то соседние куски, фрагменты. Связать их и попытаться наконец увидеть. Объять необъятное, узреть всю картину целиком. Разумеется, он прекрасно осознавал, что это невозможно. Это никому еще не удавалось. Чудесные истории об Иерофанте, Видящем и всём подобном были не более правдой, чем легенды о снежном человеке. Но что-то он всё-таки видел. Всегда с разной интенсивностью – это зависело от условий – и всё же иногда грядущее обступало его столь плотно, что он мог часами нестись сквозь него, фиксируя ощущения от увиденного словно сумасшедший лихач, впитывающий окружающие пейзажи лишь как калейдоскоп и не знающий другого способа восприятия. Никогда, никогда ему не удавалось лишь одного – остановиться! Он не знал, как это сделать и, более того, он не знал, что тогда случится с ним самим. Сможет ли он после этого оставаться обычным с виду человеком или навсегда погрузится в поток сознания, текущий далеко от общепринятой действительности. Дмитрия никак не прельщала перспектива провести долгие годы жизни в психушке, тем более, что его молодое тело требовало всё больших и больших наслаждений. Даже из своего дара он умудрился сделать своеобразный наркотик, часто заменяющий все прочие. Поэтому его эксперименты не заходили далее простого удовлетворения любопытства.
Дверь за Рутманом и его охранниками закрылась, и Дмитрий явственно почувствовал в себе потребность восстановить растраченные на сеанс силы. Ползать по стволу грядущей короткой жизни Рутмана показалось ему в этот раз особенно неприятным занятием. В следующую пятницу люди Рутмана должны были опять кого-то убить. Дмитрия это не смущало. Какое ему было, в конце концов, дело до событий, на которые он не мог никак повлиять, даже если и ведал о них. Но в подобных случаях приходилось особенно скрупулезно всматриваться в детали, чтобы все обстоятельства предстоящего стали прозрачно видны для клиента. Его это утомляло более всего. Всё ж таки он был не «криминологом», как обзывали в их среде тех, кто специализировался на особенно четких проявлениях видения. Таковые являлись, обычно, людьми крайне замкнутыми и не высовывающими носа дальше своей конуры. У него же был, скорее, художественный дар. Почти поэтический. Сильное и красочное проявление, позволяющее ему угадывать и описывать те события, которые он даже и не видел непосредственно. Дмитрию легко давались связи и ассоциации. Порой по одному только чувству он восстанавливал остальные. Рутман очень хорошо знал, что лучшего видящего в столице ему не отыскать. По-своему Рутман тоже был талантливым человеком. Особенно в умении находить нужных людей.
Дмитрий встал, подобрал со стола зажигалку и пачку «Кэмел», закурил неторопливо и спокойно. «И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед», — пропел он про себя с усмешкой, попытавшись изобразить на лице гримасу знаменитого актера. Бросил зажигалку обратно, вдруг обнаружив краем глаза чужеродную деталь на соседнем кресле. Что-то яркое. Обернувшись, он понял, что это всего лишь детская книжка, забытая сыном Рутмана еще в прошлое посещение, когда отец притащил его с собой. Она так и лежала у него, кочуя с места на место, он и в этот раз забыл ее вернуть.
Старшему сыну Рутмана на днях исполнилось девять. Он был невысок, худощав, с внимательным взглядом больших темных глаз и черной шевелюрой. На Дмитрия он смотрел с постоянной настороженностью, не отводя взгляда, и, похоже, ему не очень-то нравились эти посещения странного знакомого отца. Он всегда сидел на самом краю кресла, прижимая книжку к груди обеими руками, молчал и лишь бросал быстрые взгляды на отца, когда ему казалось, что можно оторвать глаза от хозяина. Дети обычно любили Дмитрия, и подобное поведение он мог объяснить только тем, что мальчик что-то чувствовал. Он мог и ошибаться, но, возможно, пацан обладал слабым подобием дара. Нечто совсем неуловимое, на уровне подсознания. Более сильное проявление он бы почувствовал. Скорее всего, лет через пять оно совсем сойдет на нет, смытое напрочь пробудившейся волной подростковой сексуальности.
Дмитрий набросил пиджак на широкие плечи, сунул сигареты в карман и вышел из квартиры. Август был холодным и сырым. Настоящим предвестником. В этой ипостаси он его только и воспринимал. Для Дмитрия август всегда оставался месяцем волшебной тонкой грани между улыбкой и слезами. К счастью, август в Москве почти всегда оправдывал возложенные на него надежды. Дождь шел прошлой ночью и, похоже, собирался пойти и сейчас.
Дмитрий набрал полные легкие вечерней свежести, окинул взглядом пустой двор, первые желтеющие листья на тополях и открыл дверцу своего «Опеля». В машине он ощущал себя лучше, чем дома, хотя водил он неважно. Дергано и торопливо. «Опель» был третьей машиной, которую он сменил за последний год. Наконец-то машиной, купленной за разумные деньги для разумной езды. Расколотив две дорогих иномарки, чудом избежав при этом увечий, Дмитрий всё-таки пришел к необходимому компромиссу.
Выехав из двора, он вскоре влился в поток автомобилей на Проспекте Мира и покатил в сторону Центра, выключив себя из всего остального пространства, оставив вокруг только широкую ленту дороги, покрытую мчащимися жестяными коробками с людьми, рискующими в любую следующую секунду превратиться в клубок плоти, перемешанной с металлическим ломом. Серо-рябое полотно набегающего асфальта, вырастающие на глазах глыбы приближающихся издалека зданий, хаотический шум проспекта, превращенный в глухой гул звукоизоляцией салона – всё это действительно было так похоже на полет внутрь и вперед, который он осуществлял на сеансе, что Дмитрий в который уже раз подумал о злой иронии жизни, наделявшей избранных людей избранными способностями, при этом зачастую теми, полностью овладеть которыми они были не в состоянии. Он сам был не более чем обыватель, пусть даже столичный обыватель, способный лишь к банальным аналогиям. У него даже не хватало фантазии, чтобы как следует описать свой дар.
На пересечении с Садовым кольцом Дмитрий сделал так, как он делал всегда, когда произвольно катался по Москве в расслабленном состоянии. Он положился на свои руки. В последний момент они уверенно крутанули руль вправо, едва вписав «Опель» в поворот. Он буквально выскочил из-под огромного трейлера с красочными надписями на бортах, заслужив, наверное, в свой адрес немало крепких словечек. Садовое было забито транспортом и, устав от постоянного дерганья, Дмитрий быстро свернул на этот раз налево, на небольшую улицу, названия которой он не знал. Через несколько минут он понял, что оказался в районе Никитских ворот. Вновь, как обычно ему пришла в голову мысль, что случайности нам не подвластны. Сколько бы мы не пытались поступить «случайно», всякий раз через какое-то время обнаружится скрытый смысл в наших, на первый взгляд, произвольных поступках. Дмитрий усмехнулся и завернул в переулок.
Сегодня он слишком много думал о будущем и о связях. О возможности соединить все впечатления и создать общую картину. И вот он у дома Берга.
Из всех подобных ему, наделенных даром, Дмитрий смог тесно сойтись только с ним. Конечно, иногда он встречался и с другими. Они все, даже самые замкнутые из них, периодически встречались друг с другом, зачастую ненавидя и себя и всех остальных, но всё-таки вынужденные мириться с этим, потому что среди обычных людей они ощущали еще большее одиночество. Ко всему прочему это было обусловлено и той непреложной особенностью, которая делала невозможной видеть свое собственное будущее, вне зависимости от силы дара. Поэтому многие прибегали к помощи особенно близких им друзей из кампании таких же видящих, что и они сами. Дмитрий с самого начала выбрал Берга и с тех пор ни разу не пожалел об этом.
Он остановился во дворе, с трудом вырулив между припаркованными автомобилями и вышел из «Опеля», громко хлопнув дверцей. Даже не заперев его, он направился к подъезду без всяких опасений за машину. Когда он покупал его, то позаботился о том, чтобы проследить его судьбу. Он знал, что «Опелю» не суждено быть украденным. Он сам разобьет его, уже довольно скоро.
Берг был дома, как всегда. И как всегда не удивлен, увидев Дмитрия. Что-то было в этом пожилом одутловатом лице, что исключало всякую возможность удивления.
— Проходи, — просипел он, вдыхая натужно и торопливо. И тут же потянулся к карману рубашки за сигаретой.
Дмитрий знал, что все оставшиеся пятнадцать лет Берг будет вот так же постоянно торчать дома, сипеть и беспрерывно курить. И Берг это знал тоже. Он верил в Дмитрия так же, как и Дмитрий верил в способности самого Берга.
Конечно, в силе восприятия Бергу было до Дмитрия далеко. Он видел слабо, поверхностно, скорее, угадывал приметы будущего, нежели наблюдал его. Но кроме всего прочего, Берг был еще и мудрым человеком. Мудрым и опытным в своем даре. Он изучил чудесную способность, данную ему природой, лучше любого другого и умел использовать все нюансы так, что добивался лучших результатов, чем другие, более одаренные.
— Рутман опять наведывался? – спросил Берг, направляясь на кухню тяжелой походкой пожилого астматика.
— Да. Уж не хочешь ли ты намекнуть, что я прихожу каждый раз после его визита?
Берг остановился и обернулся.
— С каких это пор ты начал становиться мнительным? Я ничего такого не имел в виду.
— Черт побери, я не знаю! Сегодня что-то я устал больше обычного. Чего-нибудь нальешь?
— Как обычно. Проходи, проходи.
Они расселись на кухне перед узким белым столом, куда Берг поставил высокую бутылку с капельками растаявшей изморози, оставлявшими на прозрачных боках неровные полоски, пачку томатного сока и два стакана.
— Твоя проблема в том, — сказал Берг, выпустив огромный клуб сигаретного дыма, — что ты неправильно распределяешь усилия. Я тебе сколько уж раз повторял – не стоит особо усердствовать из-за таких, как Рутман.
— Ты же знаешь, сколько он платит.
— Сколько бы он ни платил, всё будет мало за то, что ты для него делаешь. Спокойствие души дорого стоит.
— Всё это только слова, старина, но если бы ты видел его глаза, когда он выспрашивает о подробностях, ты бы не был уж настолько уверен.
Берг усмехнулся.
— Это я-то не видел? Ты что не знаешь, что я работал вместе с его отцом в одном НИИ?
Дмитрий удивленно воззрился на Берга.
— Да?! В первый раз слышу. Откуда же я мог узнать об этом, раз ты сам не рассказывал никогда?
— Ну… — Берг покачал головой, — я думал, может ты это сам увидишь. Рассказывать я не хотел. Знаешь — это не лучшее воспоминание в моей жизни.
— Подозреваю, что сынок пошел в отца.
Берг махнул полной рукой.
— Брось ты! Черт с ними! И с отцом, и с сыном. Тебя же не это волнует, не так ли?
— Как всегда прав. Разумеется, бывали сеансы и похуже. Просто…
Дмитрий замялся. Он понял, что не знает, что «просто». О чем он вообще хочет поговорить? Для чего подсознание притащило его к Бергу на этот раз? Тот молча курил, изредка стуча толстым пальцем по ножу, с помощью которого он смешивал «кровавую мэри».
— Мне сегодня пришла в голову мысль, что мы зря теряем время, — наконец сказал Дмитрий.
— Кто это «мы»? О чем ты?
— Мы, мы все. Видящие. Мы занимаемся тем, что используем свой дар для собственной выгоды. А могли бы…
— Так что могли бы? Продолжай.
— Могли бы. Ну… Могли бы увидеть! Понимаешь, о чем я?
— Понимаю. Таким вопросом рано или поздно задаются все. Почему бы не объединить усилия, постараться увидеть всё… Помощь человечеству, «подстелить соломку» и прочая муть! Не так ли?
— Ну, что-то в этом роде. А что здесь такого? В таких замыслах?
— Брось! Разве мы придумали этот мир? Не нам его и менять. Если бы все люди объединились, не только такие, как мы, а все, понимаешь, вообще все – тогда бы совсем всё вышло хорошо. Ты же не предлагаешь подобную глупость!
— Хочешь сказать – каждый за себя?
— Да. А остальные разговоры – от лукавого.
— Выходит, и легенды о Иерофанте – тоже из этой области?
— Вроде как… Хотя не знаю, не буду врать. Легенды – это не по моей части. Обратись к Львову – он у нас специалист.
Дмитрий вспомнил старика Львова – собирателя фольклора видящих — и невольно улыбнулся. Львов был ходячей энциклопедией, но не более чем. Он всё знал, и, при этом, ничего точно.
— За Львова? – предложил Дмитрий.
— За Львова, — кивнул Берг.
Они опрокинули стаканы, и Дмитрий снова задумался над тем, зачем он пришел сюда сегодня. Пить ему совершенно не хотелось. Но с Бергом иначе было нельзя. Он даже сеансы с клиентами проводил после порядочной дозы.
— Ты сказал, что я проживу дольше всех из нынешних, — сказал Дмитрий, скатывая большой шарик из хлебного мякиша, — по-твоему, я смогу увидеть то, что я вижу в самом конце?
— Смотря что ты имеешь…
— Через пятьдесят лет? Семьдесят?
— Точно не знаю. Я видел, что твой возраст значительно превышал средний. Но я это видел не один раз и у других. Особенно у молодежи. Это говорит о том…
— Жить будут гораздо дольше. Это я знаю сам.
— Если только…
— Что?
— «Вилка».
— У меня?
— Да. И очень даже скоро. Маловероятно, процентов девяносто на десять.
— Девяносто, что пройду?
— Да. Я прошлый раз тебя уже предупреждал, но ты, кажется, не обратил внимания.
Да, теперь Дмитрий начал об этом вспоминать. Действительно Берг упоминал о «вилке» — ситуации выбора, когда будущее становится особенно непредсказуемым. Неоднозначная ситуация, выход из которой виделся по-разному. Чем укатанней и привычней была жизнь человека, чем меньше он принимал решений, тем меньше подобных «вилок» было в его жизни. Вот у Берга, например, до самой его смерти не было больше ни одной. И, если послушать его речи, становилось понятно – почему.
— Хорошо, забудем о ней. Меня это не волнует. Я гораздо сильнее держусь за свою жизнь, чем ты думаешь.
— Ну, дай бог, дай бог…
Они снова выпили, и Дмитрий отправил хлебный шарик в рот.
— Я пойду, наверное, — сказал он, вставая, — пожалуй, только… Ты не взглянешь, что там у меня наблюдается?
— Охотно! Я как раз в нужной кондиции.
Берг опустил тяжелые веки и прикрыл своей ладонью ладонь Дмитрия. Дмитрий смотрел на это некрасивое лицо, слушал хрипы больных легких, вдыхал запах крепкого перегара, исходящий от Берга, и снова думал, как странно судьба распоряжается своими дарами. Этот лысоватый пьяница перед ним мог с легкостью узнать о человеке всю его жизнь, но от этого он не переставал быть ни пьяницей, ни мизантропом.
Берг что-то забормотал, перебирая выпяченными губами. Потом вдруг зевнул и открыл глаза.
— Пожалуй, я в прошлый раз ошибался на счет «вилки», — произнес он спокойным голосом, — всё очень чисто и спокойно.
— А на счет пьяного вождения ничего не было? – со смехом спросил Дмитрий. Почему-то он вдруг почувствовал облегчение после слов Берга, как будто в глубине его души копилось до этого какое-то беспокойство.
— Нет, — наивно открыв глаза, ответил Берг, — а разве ты на машине?
— Разумеется. Спасибо тебе.
— Не за что. Всегда рад помочь. Благодарю, что зашел.
— Ну так!..
— Кстати, — бросил Дмитрий, уже уходя, — мне показалось, что у сына Рутмана, у младшего, есть небольшой дар.
— Что ты говоришь?! – воскликнул Берг. – Вот это новость! Ты уверен?
— Не вполне. Так… просто догадка. Впрочем, это не имеет значения. Если что-то и есть, то очень слабое.
— Что ж. Время покажет.
Дмитрий залез в машину и вдруг ощутил, что совершенно пьян. Это почему-то вызвало у него забавные мысли о том, что он может сейчас поехать даже задом наперед по встречной полосе безо всяких последствий, раз Берг ничего в этом роде не увидел. Впрочем, несмотря на алкоголь, Дмитрий прекрасно понимал, что ничего такого не сделает. А если бы даже и сделал… Скорее всего, он банально въехал бы в какой-нибудь бордюр и заглох. А потом просто бы бросил машину и направился на такси в ближайший ночной клуб продолжать пить с досады. Иногда обреченность будущего была еще хуже, чем полное неведение.
Поэтому он просто завел «Опель» и с мутной головой поехал по улицам, неожиданно поворачивая в неожиданных местах. Пока окончательно не ощутил себя трезвым. Тогда он остановился и взглянул на часы. Было два ночи. Он огляделся и обнаружил, что так и не выехал из Центра. «Опель» остановился на Пятницкой улице, недалеко от канала. Езда на пьяную голову была схожа с каким-то странным аттракционом, когда дома и улицы приобретали странные смазанные и колеблющиеся очертания, звуки города звучали резче и отрывистей, а внутреннее внимание притуплялось, уступая место реакциям тела, высовывающим на поверхность рассудка свои уверенные конечности. Дмитрий был почти убежден, что навеселе водит машину лучше, чем будучи совсем трезвым.
Сейчас в его звенящей голове звучал голос Берга, говоривший: «Всё очень чисто и спокойно». Отчего-то хотелось, чтобы было не так. Не от того ли он устроил эту ночную езду? Могло ли так быть, что он подсознательно искал изменений? Своего ровного и чистого будущего? Разбил уже две машины… И знал, что разобьет и эту. Но – «всё очень чисто и спокойно»! Только сейчас он понял, что об этом он больше всего хотел поговорить сегодня с Бергом. О возможности внести изменения в свое грядущее.
«Ну и пошло оно!..» — сказал он, зевая, и завел двигатель. Теперь он просто хотел спать. Тело устало. Молодой организм – это диктатор с вкрадчивым голосом. Он заявляет о своих желаниях тихо и незаметно, принуждая принимать решения, не замечая диктата. К старости этот голос переходит в истерический визг.
Дмитрий рывком сдернул машину с места и полетел вперед, вглубь ночного города, расцвеченного обведенными кружками разводов огнями в тонкой пелене мелкого дождя.
Войдя в пустую квартиру, Дмитрий едва ощутил подобие чьего-то присутствия. Так, словно кто-то недавно вышел и оставил за собой даже не запах, а всего лишь мимолетный след в виде крошечной детали, незаметной для сознания, но отмечаемой той частью нашего мозга, что ведает нашими привычками. Он встал прямо, обратил взгляд в потолок и раскинул руки в стороны, направляя свою способность во все стороны вокруг себя, наподобие паутины, ловящей малейшие изменения в окружающем. И ничего не увидел. Всего лишь пустую квартиру.
Он вздохнул, ссутулился и присел в кресло. Заметив на столике телефонную трубку, решил, было, позвонить Бергу, но потом покачал головой и бросил трубку на базу. Переутомился он, что ли? Еще только не хватало заделаться параноиком! Положительно, следовало несколько следующих дней отдохнуть. Дмитрий напряг память, в попытке вспомнить, будут ли у него еще на этой неделе сеансы. На завтра… (нет, уже на сегодня!) намечались две встречи с богатыми домохозяйками, озабоченными будущим своих чад или бизнесом мужа. А послезавтра друг детства собирался привести свою дочь, у которой было подозрение на опухоль мозга.
«Надо всё отменить», — подумал он, зевая. Чувствуя себя абсолютно уставшим и разбитым, он завалился на диван в гостиной, не раздеваясь, только скинув ботинки, и тотчас уснул.
Дмитрий проснулся от бьющих ему прямо в глаза ярких солнечных лучей. Оторвав голову от диванной подушки и бросив взгляд в окно, Дмитрий решил, что день будет на редкость жарким для этого августа. Часы показывали одиннадцать. Явно пора было вставать, тем более, что скоро должна была придти клиентка. Тут он вспомнил, что отчего-то хотел вчера отменить все сеансы. «С чего бы?» – подумал он недоуменно. Неужели из-за вчерашней небольшой усталости? Какая ерунда! Дмитрий чувствовал себя как нельзя хорошо, несмотря на ужасную сухость во рту и легкое головокружение.
Он вскочил и бросился приводить в порядок себя и квартиру, на ходу вспоминая вчерашний день. В гостиной Дмитрий снова наткнулся на книжку, забытую сыном Рутмана. Первым его побуждением было снова убрать ее с глаз долой, но он понял, что в этом случае опять забудет ее отдать. К тому же ему стало интересно, что может читать мальчуган. Похоже, тому действительно нравилась эта книга.
Дмитрий, не присматриваясь к разноцветному плотному переплету, раскрыл книжку в самой середине, про себя удивившись, когда увидел внутри лишь скромные черно-белые иллюстрации карикатурного типа. Именно иллюстрации вначале и привлекли его внимание. Он сам неплохо рисовал, и ему показалась забавной манера неизвестного ему художника, словно бы глумившегося над читателем. Поэтому он стал смотреть все картинки подряд с самого начала, быстро перелистывая страницы и улыбаясь всё шире. Картинок было много, и через некоторое время Дмитрий начал пробегать глазами текст рядом с ними, чтобы хоть приблизительно составить себе представление о содержании. Поначалу он не понял, что внутри него происходит что-то неладное. Похохатывая на одних строчках и фыркая от возмущения от написанной белиберды на других, Дмитрий незаметно для себя увлекся текстом, проглатывая уже целые страницы. Только спустя несколько минут он вдруг обнаружил, что всё это время видит происходящее в книжке не с помощью воображения. Это были воспоминания. Так, как будто картинки будущего, схематично набросанные автором, были давно знакомы Дмитрию и не раз видены им. Видены во время его сеансов. Дмитрий поднял глаза и уставился в обои на стене, пораженный и смущенный. Потом он порывисто пере-вернул книжку и взглянул на обложку, в тайной надежде увидеть там какое-нибудь известное ему имя. Однако фамилия автора ничего ему не сказала. Не удовольствовавшись этим, Дмитрий развернул последнюю страницу, и его догадка оказалась верна. Имя на обложке было всего лишь псевдонимом. Догадка, впрочем, не принесла Дмитрию никакой пользы. Потому что настоящая фамилия писателя тоже ни о чем ему не говорила.
Первой осмысленной мыслью Дмитрия было: «Неужели я всё же начал сходить с ума?!» Мог ли его дар наконец повернуться к нему своей оборотной стороной? Такое иногда происходило, правда, не с такими, как он. Здоровыми молодыми людьми с крепкими нервами и спокойным рассудком. Он вновь открыл книжку теперь уже с самого начала и стал нетерпеливо читать страницу за страницей, в надежде отогнать от себя наваждение. Но вместо этого воспоминания стали захватывать его всё сильней и сильней.
«Я видел всё это! Точно видел!» – повторял он про себя всякий раз, узнавая по описаниям те фрагменты грядущего, что он столько раз наблюдал, когда проникал туда во время своих собственных изысканий, пытаясь как можно дальше расширить границы своего видения. Некоторые мелкие детали просто-таки поражали своим точным сходством. Потрясение от узнанного столь сильно владело Дмитрием, что он и не подумал открывать дверь, когда в нее начали трезвонить. Очевидно, это была клиентка. Он не потрудился даже вежливо выпроводить ее, придумав какую-нибудь уважительную причину. Он просто не в силах был оторваться от текста до тех пор, пока не дочитал книжку целиком. Тогда он откинулся на спинку дивана и попытался хоть как-то уместить в голове то, что узнал сегодня.
Несомненно было одно. Автор был видящим. Таким же точно, как Дмитрий или Берг. Хотя каким, к черту, таким же?! Вовсе не таким. Он был намного сильнее. Даже по тем скудным намекам, которые Дмитрий смог понять в этой книжке, автор, без сомнения, знал гораздо больше, чем любой видящий из всех ныне живущих. И подобный человек до сих пор не был никому известен?! Это было просто невероятно! У Дмитрия не укладывалось в голове, как такой сильный видящий смог долгое время оставаться не замеченным другими, владеющими даром. Научился ли он скрывать свою способность или просто избегал общения с себе подобными? Тогда зачем было так выдавать себя, публикуя эту книжку? У Дмитрия мурашки побежали по коже, когда он подумал о тех тайных целях, которые мог преследовать такой человек. И насколько много ему известно?
Дмитрий вскочил. Он должен узнать о нем побольше. Немедленно! И, по возможности, прочитать все подобные книжки, если они еще существуют. Судя по аннотации, это была целая серия. Дмитрий накинул пиджак и побежал к выходу. Но в самый последний момент ему пришла в голову мысль позвонить Бергу. Была вероятность, что Берг уже знает, хотя Дмитрий не мог поверить, что тот не рассказал бы ему об этом.
Дмитрий схватил трубку и набрал номер Берга, в нетерпении расхаживая по комнате. Берг ответил после пятого звонка и, как обычно, просипел что-то невразумительное.
— Это ты?! – крикнул Дмитрий. – Слушай, я тут, кажется, нашел кое-что, от чего старик Львов встанет на голову от счастья.
— Да что ты, — усмехнулся Берг, — ну, валяй, рассказывай.
Дмитрий принялся рассказывать, прижав трубку ухом к плечу и листая книжку, чтобы периодически зачитывать из нее особенно поразившие его фрагменты. За всё время рассказа Берг не проронил ни слова.
— Ну? – не выдержал наконец Дмитрий.
— Что «ну»?
— Что ты скажешь об этом?
— Что я скажу? Я скажу, что тебе следует немедленно бросить твои поиски и навсегда забыть о том, что сейчас мне рассказал?
— Как?.. Как ты сказал? Бросить?! Какого черта?!
На секунду Дмитрий подумал, что его собеседник просто пьян, но взглянув на часы, понял, что еще слишком рано. Берг никогда не позволял себе напиваться в такое время.
— Такого! Всё, что ты можешь услышать от меня на этот счет. Брось немедленно и забудь. Это мой тебе дружеский совет.
— Ты знал?
— Я? Разумеется, нет. Откуда бы? Я не читаю детскую литературу. Я вообще никакую литературу не читаю.
— Да что с тобой? Я не понимаю.
— Лучше тебе и не понимать. Просто забудь.
— Забыть? Ни за что! Я обязательно продолжу поиски. Ты же прекрасно знаешь, как меня интересуют некоторые вещи.
— Знаю. Но если ты хочешь спокойно прожить свою жизнь – прекрати это!
— Что ты несешь?! Ты же сам видел мое будущее.
— Вот черт! Ну, видел. И что с того?
— Как?! – Дмитрий растерялся. — Разве это не гарантия?
— Гарантия. Но иногда бывают исключительные случаи.
— Что ты имеешь в виду? Не говори загадками.
— Я ничего не могу ответить, потому что ничего не знаю. Я знаю только, что тебе следует бросить свою затею. Если ты веришь мне, ты так и поступишь. Более мне нечего тебе сказать.
Дмитрий почувствовал, что сейчас взорвется. Он понял, что надо закруглять разговор, чтобы не сказать чего-нибудь, о чем потом придется жалеть.
— Я вижу, ты просто во власти каких-то суеверий, потому что уверен — знай ты больше, ты бы не стал от меня это скрывать, ведь так?
И не дожидаясь ответа Берга, он повесил трубку.
Слова Берга несколько охладили пыл Дмитрия. Однако он и не думал отказываться от желания узнать побольше о странном авторе, пишущем о будущем, используя для этого форму книжек для младшего школьного возраста. Мог ли Берг решить, что у Дмитрия попросту «поехала крыша»? Ведь он – Берг – не видел и десятой доли того, что видел Дмитрий, исследуя будущее сеанс за сеансом. Его дар был не столь силен и, самое главное, не столь богат чувствами. Мог ли он попросту не поверить Дмитрию, не узнав будущего в коротких фрагментах, которых ему не довелось встретить во время собственных сеансов? Это было вполне возможно и даже весьма вероятно. Берг мог предостерегать Дмитрия, потому что боялся, что тот скатится на дорогу безумия. Должно быть, он этого и опасался. Иначе как еще объяснить его упрямство и невозможность подтвердить свое мнение хоть чем-то вразумительным.
Дмитрий в задумчивости покинул квартиру и уселся в «Опель». Предстояло решить, куда лучше поехать. Рассудив здраво, он подумал, что быстрее всего отыщет то, что ему нужно на книжном рынке в спорткомплексе «Олимпийский». Он был недалеко и, главное, шесть этажей сплошных книжных развалов гарантировали успех в поисках.
Так и вышло. Через полтора часа Дмитрий в прекрасном настроении катил обратно. На заднем сидении была свалена кипа детских книжек с одним и тем же женским именем не обложке. Впрочем, он не ограничился только ими. Он набрал всё, что только смог найти, того же автора. На всякий случай.
Около своего подъезда он увидел маленькую красную «Тойоту». К счастью, это случилось до того, как сама клиентка обратила на него внимание. Дмитрий резко ударил по тормозам и задним ходом выкатил со двора. Он понял, что дома ему всё равно не дадут покоя. Тогда он снова выехал на проспект Мира и помчался в сторону от Центра, туда, где никто не мог его побеспокоить. Он припарковался на небольшой улице, примыкающей к Ботаническому саду.
Это было привычное прибежище тогда, когда жизнь вконец изматывала его. Изредка случались такие моменты. Нечасто, но случались. Когда не помогали ни вино, ни женщины, ни музыка. Вообще ничего! Если бы у Дмитрия было время, он углублялся бы в такие моменты в самые дальние, самые непроходимые леса, чтобы не видеть, не слышать, не ощущать рядом присутствие других людей. Эти проклятые люди! Они могли свести с ума кого угодно! Их желания кипели, как смола в раскаленном котле. Деревья были совсем другими. Они просто стояли и молчали. Они ни о чем не думали, они не плакали, не требовали, не ждали. Просто молча делали свое единственное дело. Росли вверх! Эта целеустремленность и простота внушали Дмитрию своеобразное благоговение. Он приходил к деревьям учиться не обращать внимания на окружающее.
Август еще позволял развалиться прямо на траве, посреди поляны. Сегодня даже не было дождя. Во всяком случае, пока. Небо светилось серым с легкими проплешинами голубого. Дмитрий не смотрел на небо. Он по очереди доставал книги из большого черного пакета и поглощал их одну за другой, как только испеченные пирожки. Он и не подозревал раньше, что может так быстро читать.
Впрочем, это не было похоже на чтение. Скорее напоминало путешествие по огромной карте. Дмитрий с упоением осваивал очертания и рельеф той странной территории, что именуется будущим, где он не раз бывал, но видел лишь краем глаза. Кое-что, нечетко и фрагментарно. Теперь же перед его взором вставали широкие картины, и те, что он наблюдал, и те, о которых лишь догадывался, и те, что были совсем внове. Ни на одну секунду он не усомнился в правдивости автора – настолько совпадали детали его книг и подробности сеансов видения, проведенных Дмитрием. Дикость фантазии только усиливала убедительность, благодаря яркому контрасту вымысла и действительности. Дмитрию даже пришла в голову мысль, а не нарочно ли это сделано, чтобы еще выгодней подчеркнуть то объемное впечатление, которое создавалось при погружении в чудесные истории автора. Даже эта девочка – этот бесконечный персонаж, кочевавший из повести в повесть – обманывал ли он сам себя, или что-то уже слышал о ней? Там, исследуя шаг за шагом оброненные кем-то ненароком слова, ловя обрывки бесед, странные тексты, написанные на незнакомом языке, но понятные его особому, внутреннему зрению. Не могло ли быть так, что он слышал это имя? Лихорадочно листая страницы, Дмитрий всё больше убеждался, что оно не раз звучало из разных уст. Это было всегда на самой грани видимости, на горизонте способностей разглядеть что-то в грядущем. В районе восьмидесяти-ста лет впереди. Его буквально поразило название книжки, так походившее на эту фразу. Как будто автор знал заранее, что кто-то, догадавшийся обо всем, будет сидеть на поляне, заросшей высокой травой, но, при этом, в центре огромного города, читать его странные книжки, и решил поиронизировать над этим несчастным, сраженным наповал и раздавленным увиденной глобальной картиной.
«Он сделал то, о чем я мечтал!» – повторял Дмитрий про себя, когда в изнеможении отбросил в сторону очередную книгу. За один присест он одолел столько страниц, сколько до этого, порой, не читал и за год. А книжек еще было достаточно.
«Это, без сомнения, Иерофант!» — сказал Дмитрий, и повторил еще раз вслух, почему-то шепотом:
— Иерофант…
Ему самому стало жутковато от своих догадок. Возможно ли это? Неужели он наконец-то таки нашел того, кого и быть-то не могло? Кого все считали просто банальным мифом, обычной историей из фольклора видящих. Человек, способный увидеть сразу всё будущее. Настоящий Видящий, обозревший все дальние уголки и картину в целом одновременно. Дмитрий впервые ощутил себя потерянным. Что же теперь ему делать? Допустим, он найдет писателя. Что дальше? Он придет к нему, но что он ему скажет? Расскажите мне о будущем? Довольно глупый вопрос от видящего. Научите, как… Но вряд ли тот сможет. Разве может он сам объяснить обычному человеку, как видеть? Как работает этот странный механизм, случайно заложенный в него от рождения? Просто так получилось, что он с детства мог внутри себя проследить развитие происходящих вокруг событий. Но ни разу он не видел источника своего дара. Никогда про-исхождение странной способности не открывалось ему. Вот Берг всю жизнь копался в себе, но так и не смог определить никакой закономерности. Так чего же он будет требовать от человека, случайно оказавшегося в роли пророка? Или всё же не случайно?! Не на это ли Дмитрий надеялся? На то, что у писателя могут оказаться ответы на мучающие его вопросы? Вдруг он окажется другим. Не таким, как все обычные видящие. Истинно Видящим!
Когда он подъехал к дому, то с удивлением увидел, что маленькая красная «Тойота» всё еще стоит напротив его подъезда. Сгущались сумерки, неужели клиентка до сих пор ждала его? Неужели она сидит здесь не меньше пяти-шести часов? Он вышел из машины, подошел к «Тойоте» и заглянул в окно со стороны водителя. За рулем никого не было. На всякий случай Дмитрий бросил взгляд на заднее сидение. Дикая мысль, конечно, что сорокалетняя женщина уляжется там спать, но надо было очистить совесть.
Дмитрий успокоился. Очевидно, у нее просто сломалась машина, и она уехала домой на такси. Сзади зазвучал разговор. Две женщины, приближаясь из-за угла здания, обсуждали что-то громко и тревожно. Резануло слово «реанимация». Дмитрий обернулся.
Две женщины с покупками возвращаются из магазина. Одну из них он хорошо знает. Его соседка по этажу. Эхо во дворе, с трех сторон охваченном высотным домом, позволяло слышать каждое слово. «…мне сказал, что надежды никакой». «Какая молодая! Наверное, сердце?» «Вроде, да».
Они подошли уже вплотную, и Дмитрий улыбнулся, здороваясь.
— Не ваша знакомая? – сразу спросила соседка.
— Да. А что случилось?
— Ей стало плохо в машине. Пока заметили, пока «скорую» вызвали. Пока они приехали.
— Их дождешься! – вставила ее знакомая.
— В общем, когда ее увозили, врач сказал, что надежды уже никакой.
Дмитрий отвернулся, чтобы не выдать своих чувств. Он был изумлен и напуган. Она не должна была умереть! Он не видел этого в ее ближайшем будущем. Он знал, что через год она разведется, что ее сын женится, что она сломает руку, отдыхая в Крыму следующим летом. Но ни о каком сердечном приступе не было и речи! Эта женщина была на удивление здорова для своих лет. Дмитрий молча покачал головой и побрел к подъезду. Что-то не состыковывалось.
Видение никогда его не подводило. Ни разу в жизни. Дмитрий не верил ни одному своему чувству так, как видению. Оно могло угнетать тем, что часто вызывало в нем чувство обреченности, иногда погружало в ужасные депрессии, порой, он видел то, чего совсем не желал видеть. Но одно было точно – стопроцентная гарантия, что виденное сбудется. Конечно, бывали еще «вилки». Но они появлялись не часто и являлись просто вариантами. В таких случаях он видел все варианты сразу.
Что произошло сегодня Дмитрий просто не мог уместить у себя в голове. Ошибся ли он сам, или это какая-то непонятная, неизвестная ранее аномалия? Смерть клиентки на время вытеснила из его головы даже мысли о книгах, написанных Видящим. Он прошел на кухню, разом опорожнил большой фужер вина. Потом еще один. Внутри него возбужденность соседствовала с угнетенностью. Надо было избавиться хотя бы от одного из этих чувств.
Он на скорую руку приготовил себе ужин, взял две бутылки «Мерло» и уселся перед телевизором. Люди в телевизоре выгодно отличались от живых хотя бы тем, что их будущее нельзя было проследить. Дмитрий любил наблюдать за теле-людьми, постигая для себя, как другие – обычные — люди видят себе подобных. Без всяких там дополнительных способностей и даров. Он сидел и переключал по очереди восемнадцать каналов один за другим, не останавливаясь надолго ни на одном. Видно вино сморило его, потому что он вдруг проснулся в темноте комнаты, освещаемой лишь телевизионным экраном, излучающим трещащий «снег». Светящийся циферблат часов показывал три. День был закончен.
С самого утра телефон разрывался, как сумасшедший. Дмитрием владело абсолютное спокойствие недавно проснувшегося человека. Он не обращал на телефон внимания. Сейчас его интересовало мнение только одного человека. На других было наплевать. Однако именно этот человек и не стал бы ему звонить. Дмитрий поглощал бутерброды и думал о том, что он скажет Бергу, когда приедет. Он должен убедить его дать хороший совет. Сейчас это было самым важным. Что делать дальше? Пока он не отыщет наилучший выход, покоя ему не видать. В этот момент Дмитрию пришло в голову, что Берг кое-что скрыл от него на прошлом сеансе. Он должен был видеть какое-то странное развитие событий. И отчего-то промолчал. Это он тоже ему предъявит.
Внизу около «Тойоты» скончавшейся вчера женщины стояли два человека. Их темно-серые костюмы были слишком дорогими для обычных следователей. «Может ФСБ? – подумал Дмитрий. — Из-за ее мужа». Двое проводили взглядами Дмитрия, наблюдая, как он садится в свою машину. Потом они переглянулись и вновь продолжили прерванную беседу тихими голосами. Дмитрий ждал, что они станут задавать ему какие-то вопросы и теперь, видя, что они не собираются этого делать, медлил, делая вид, что прогревает двигатель. С утра уже было прохладно. Он даже, было, подумал попробовать заглянуть немного вперед, развить ситуацию. Но потом отказался от своей затеи. Расстояние вряд ли бы позволило. Да Дмитрию и не хотелось сейчас тратить на это время и силы. Он поехал, не дожидаясь более ничего.
Берг не открывал долго. Дмитрий уже, было, подумал, что тот пошел прогуляться. Но через некоторое время из-за двери всё-таки послышались тяжелые шаги и сопение. Берг отворил дверь и замер на пороге. Его лягушачий рот приоткрылся. Снизу вверх он смотрел на Дмитрия и всем своим видом демонстрировал крайнюю степень удивления. Дмитрий в первый раз в жизни видел Берга удивленным и тоже застыл, не в силах вымолвить ни слова. Так они стояли минуты две-три, глядя друг на друга. Наконец Дмитрий, как более нетерпеливый, бросил:
— Что, так и будем стоять?
Берг пропустил его в квартиру и запер дверь, бормоча под нос непонятные ругательства. Дмитрий отправился прямиком на кухню. Там, вместо привычных стаканов, он разложил на столе книжки, которые читал вчера на поляне Ботанического сада. Берг приковылял следом и замер, увидев яркие обложки на столе. Машинально его рука потянулась к верхнему карману, и через несколько секунд сигарета уже наполняла кухню дымом.
— Всё-таки пришел, — сказал Берг, тяжело приземляясь на табурет.
— Почему бы и нет?
— Потому что не должен был.
— Ты не видел моего прихода, не так ли?
— Да. Как ты догадался?
— Со мной произошло кое-что подобное вчера вечером.
— Что именно?
— Вчера умерла моя клиентка, которая не должна была умереть.
— Я тебя предупреждал – брось свои поиски. А ты что сделал? Притащил ко мне кучу каких-то книжек.
— Это-то здесь при чем?
— Всё при том же! Я вот тут вчера после твоего звонка сидел и думал…
Берг остановился и исподлобья глядел на Дмитрия, как бы оценивая, стоит ли вообще говорить об этом.
— Как ты себе представляешь дальнейшие действия? – наконец вымолвил он.
— Я за тем и пришел к тебе, чтобы спросить совета.
— М-да, лучше бы ты слушал моего совета вчера и не стал углубляться в размыш-ления.
— А что изменилось?
— Всё, всё изменилось! – Берг почти кричал. – Ты всегда мучился от предсказуемости. Послушать тебя, так будущее – ровное шоссе, с которого не свернуть. Или бетонный столб. Но это не так. Вовсе не так!
— Не так? Ну, хорошо, значит я ничего не понимаю в этом. А ты сам… Как ты сам это видишь?
— Пойми же, будущее – не прочная неизменная конструкция. Скорее это дерево. Внизу прочный прямой ствол, дальше ветви – разветвления, еще дальше – тонкие веточки, становящиеся всё более гибкими и неощутимыми. На рубеже ста-ста двадцати лет они совсем пропадают, истончаются совершенно. Никакого пути более нет. Никакой определенности. Поэтому все легенды об Иерофанте, способном увидеть всё будущее, не имеют смысла. Чем дальше к границам видимости, тем более неопределенным становится будущее. Нет никакой возможности увидеть всё целиком, потому что там и нет никакого «целиком». Вот в чем дело!
— Тогда что же это, по-твоему?! – воскликнул Дмитрий, указывая на книжки.
Берг подозрительно взглянул на них, но в руки брать не стал.
— Значит ты утверждаешь, что там полное описание?
— Ну, насколько это вообще осуществимо сделать в подобных повестях.
— Весьма возможно, весьма возможно…
Берг порывисто затянулся, и тут же из него вырвался кашель. Лицо побагровело, пока спазмы сотрясали его грудную клетку.
— Я ожидал обнаружения чего-то подобного. Рано или поздно.
— То есть? Чего ты ожидал? Ты же говоришь, что всё это глупость.
— Нет, ты не понял ничего. Конечно, глупость. Вот, например, ты сам. Ты приблизительно знаешь, что ты будешь делать в следующем году. И в последующем. По крайней мере, знал… Но ты, тем не менее, пришел сегодня ко мне, чтобы спросить, как тебе поступить дальше. Отчего такие противоречия? Разве не проще было бы попросить меня просто взглянуть вперед? И ни о чем не заботиться.
— Ну… Ты ведь скажешь мне только результат. И еще есть «вилки».
— Вот именно. «Вилки» – и есть разветвления на дереве грядущего. И мы можем отслеживать каждый раз только один конкретный момент. Ты сосредотачиваешься в определенном месте. И хотя видишь многое, но всё это проходит мимо тебя незамеченным.
Дмитрий вспомнил собственное чувство гонки по пустой дороге, которое напоминало ему сеансы видения и свою досаду, что ему никогда не удавалось остановиться.
— А чем дальше ты продвигаешься, — продолжал Берг, — тем труднее тебе сосредоточиться. Тем сложней остановка. И тем менее конкретны события. Слишком много «вилок» остается позади. Слишком размыто окружающее. Оно перестает быть четким, потому что из него выпадает всё больше неопределенных пока деталей.
— Но всё-таки, — не успокаивался Дмитрий, — как быть с книгами?
— Хм! Когда говорят об Иерофанте, имеют в виду, что он имеет точное представление обо всём, что должно случиться, не так ли?
Дмитрий кивнул.
— Но, будь он даже супер-видящим, он не смог бы увидеть того, чего еще нет. Таким образом, существование Видящего возможно лишь в одном случае. И только в одном. Только если ОН САМ ДЕЛАЕТ БУДУЩЕЕ! Понимаешь, о чем я?
— Нет, нет, ну-ка повтори! Сам делает будущее? Что ты имеешь в виду?
— Очень просто! Видящий может увидеть только то, что он сам запланировал и создает.
— Что же, господь-бог какой-то?!
— Нет, почему? Просто человек. Ну, он таким родился, понимаешь?
Берг ухмыльнулся.
— Ты вот – особенный. Видишь то, что еще не настало. Почему бы не существовать человеку, который может делать то, что не настало?
— Это же не одно и тоже! Как ты себе представляешь подобную способность? Фактически, это всесилие.
— Вовсе нет. Вообрази, что кто-то может повлиять на выбор. Исправлять варианты будущего на свой манер. Подправлять «вилки». Таким образом, при определенном навыке, можно добиться того, что ты изменишь всё будущее целиком. Составить план и поэтапно осуществлять его. И книжки эти – кто знает – не часть ли это плана?
— Нет, в это невозможно поверить! Это слишком неправдоподобно.
— Я же не говорю, что такое бывает часто. Вот видящих, к примеру, рождается приблизительно, один человек на миллион. А такой уникум, возможно, вообще первый за всю историю. Людей-то рождается всё больше и больше. Или второй. Откуда-то легенды о нем пошли?
— Значит ты хочешь сказать, что писатель – Иерофант?!
— Вовсе нет. Ну, почему обязательно писатель? Он мог надоумить его. Создать ситуацию таким образом, что тот стал писать, что нужно этому человеку.
— Он выдал себя.
— Э, нет! Не думаю. Учитывая, сколько в мире видящих, учитывая, что никому из них всерьез почти никто не верит – не думаю. К тому же… Может существовать еще одна причина… Я, конечно, не могу даже представить себе какие лабиринты планов построены в этой голове, но предположить кое-что способен.
— Что же?
— Представь себе, что это должен быть за человек. Вот ты, к примеру, даже ты ощущаешь превосходство над другими людьми. Считаешь их обделенными…
— Я ничего такого…
— Помолчи. Это так. Чего спорить? Подумай теперь, каков должен быть тот, кто может изменять всё будущее мира?! Что он должен думать о всех нас? Как оценивать? Это огромный эгоцентрик, такой, какого еще свет не видывал. С чего бы еще он затеял переделать грядущее, подстраивать его под свои рамки? Только с того, что он ни в грош не ставит остальных людей, считает их неспособными решить свои проблемы и по величайшей своей гордыне решает всё сделать за них. Создать лучший мир.
— Звучит ужасно!
— Да уж. Потому я говорил тебе вчера, чтобы ты не начинал свои глупые поиски. Ведь подобный суперэгоцентрист должен иметь еще одно качество. Он должен быть суперпараноиком! Представь, ты строишь гигантское здание из чего-то более ненадежного, чем мыльные пузыри. Как ты должен оглядываться при этом по сторонам?! Ты уничтожишь любого, кто даже отдаленно покажется тебе опасным. Вот я и подхожу к вопросу о книжках. Не знаю, конечно, для чего они ему на самом деле понадобились. Может это своего рода подготовка молодого поколения… Черт разберет! Я только думаю, что такой, как он обязан одним действием решать много задач. И одной из них может стать вычисление потенциально опасных ему видящих.
— Ты так думаешь?!
— Конечно. Обычные люди не представляют для него никакой угрозы. Но видящие могут навредить. Вольно или невольно. Лучше заранее избавиться от таковых. Вот ты и клюнул на наживку.
— Не знаю, не могу я пока в это поверить. Чересчур много у тебя предположений.
— А твоя клиентка?! А твой незапланированный визит ко мне? Ты что, не знаешь, что видение никогда не врет? По-твоему, это случайные события?
— Но, если ты прав, тогда что мы можем сделать?
— Ничего. Ничего не можем. Я-то это понял, как только увидел тебя на пороге. Потому и выкладываю тебе все свои мысли. А иначе стал бы я откровенничать!
— По-твоему, мы обречены?
— Думаю, да. Процесс уже запущен и, рано или поздно, приведет к намеченному результату.
— А если мы найдем его раньше?
— Кого? Я же говорю, с чего ты решил, что это именно писатель? Он может оказаться кем угодно.
— Что ж теперь, ждать смерти?
— А чем же, по-твоему, мы всю жизнь занимаемся?
— Нет, я так никогда не буду рассуждать! В конце концов, возможно всё это просто совпадения.
Берг поднял свою ладонь.
— Дай руку!
— Что?
— Я говорю, дай мне руку. Легко же проверить. Насколько всё это совпадения.
Дмитрий замер. В конце концов это действительно был самый простой способ. Но отчего-то не так уж сильно хотелось узнавать правду.
— Давай, и решим сразу все вопросы, — предлагал Берг.
— Может быть, лучше я попробую?
— Пожалуйста! Мы можем попробовать одновременно.
И тогда Дмитрий медленно поднял руку и сжал ладонь Берга в своей.
Ему не потребовалось длинное путешествие. Он увидел Берга почти сразу, стоило только нырнуть в поток раскрывшегося перед ним будущего, едва только ощутить на себе головокружение от бешеного полета в сумерках, как уже картина квартиры, в которой они и находились сейчас выросла со всех сторон. Берг лежал на полу, издавая сдавленные хрипы, но не легкие его были тому причиной. Изо рта текла струйка крови, пузырясь от попыток Берга произнести какие-то слова, и, самое главное, на груди и животе проступали сквозь рубашку большие багровые пятна от пулевых ранений. Рядом на полу Дмитрий увидел еще несколько тел, но уже менее четко. Они просто темнели дальше, ближе к стене, валяясь в лужах крови.
Это было самым лучшим подтверждением. Никому не пришло бы в голову стрелять в этого пожилого толстяка. У него были недоброжелатели, но за всю свою жизнь он умудрился не нажить ни одного настоящего врага. Мог ли он ни с того, ни с сего сделать это за несколько дней?!
Дмитрий с усилием вырвал себя из сеанса и увидел старые глаза Берга, отражавшие сейчас лишь досаду.
— Ну что, поверил? – спросил он.
— Да, — кивнул Дмитрий, — а ты… Ты видел?..
— Видел. Но захочешь ли ты услышать то, что я видел?
— Нет, — покачал головой Дмитрий.
— Тебе пора уходить, — вдруг сказал Берг.
— Какая разница?
— Разница есть. Может быть я и старый дурак, но я кое на что надеюсь. Есть одна маленькая вероятность, что всё обойдется.
— Что же это?
— Не скажу. Поглядим. Только уходи сейчас.
— Ладно. Я надеюсь, всё же увидимся.
Он бросил взгляд на книжки.
— Оставь, — сказал Берг, — почитаю хоть, каким будущее наше станет.
— Оно будет прекрасно! – усмехнулся Дмитрий и направился к выходу.
Берг даже не пошел провожать его до двери. Дмитрий чувствовал себя совершенно потерянным. Почти ничего не соображая, он вышел в подъезд, прикрыл за собой дверь и начал спускаться вниз по лестнице, игнорируя старый решетчатый лифт. Навстречу ему поднимался человек в темно-сером костюме. Пожалуй Дмитрий бы не обратил на него никакого внимания, если бы его лицо не показалось Дмитрию до боли знакомым. Он узнал одного из охранников Рутмана, когда тот практически уже с ним поравнялся. Дмитрий застыл оттого, что неожиданно вспомнил этого человека с непримечательной внешностью клерка. Это его отчасти спасло. В руке охранника был пистолет с длинным черным цилиндром глушителя. Он нажал на курок, целясь в сердце Дмитрия. Из-за его внезапной остановки пуля вошла левее, обдав жгучей болью и бросив на зеленую стену подъезду, по которой он стал медленно сползать, чувствуя, как немеет грудная клетка, а вниз по животу и спине в брюки стекают ручейки теплой крови. Убийца шагнул вперед, направив ствол пистолета прямо Дмитрию в лицо. Тот инстинктивно вскинул руки, не обращая внимание на вспыхнувшую болью грудь, понимая, что всё произошло намного быстрее, чем он даже мог себе представить. В этот момент он увидел, как убийца резким движением отбросил его руки вниз и снова вскинул оружие. Дмитрию вдруг пришла в голову мысль, что он не пытался даже закричать или позвать на помощь, хотя у него только что была такая возможность. Теперь ее уже не было. Подавленность сыграла с ним злую шутку. Ужасная досада охватила Дмитрия. Досада за такой нелепый конец жизни, за саму странную жизнь, которой он мог бы, конечно же, воспользоваться гораздо толковее…
Короткая очередь прозвучала в подъезде оглушительным грохотом. Дмитрий увидел, как человек Рутмана, словно тряпичная кукла отлетает к перилам и катится вниз, сбитый какой-то мощной силой. Он поднял голову. Берг стоял в проеме двери и вешал «калашникова» на плечо, тревожно глядя на Дмитрия.
— Кажется, успел! – запыхтел он, спускаясь по лестнице к раненому Дмитрию.
Он склонился над ним, взял его подмышки и попытался поставить на ноги. Это резкое движение вызвало перед глазами мельтешение серебристых мух, и на несколько минут Дмитрий потерял сознание.
Он очнулся и увидел, как Берг, дыша словно паровоз, пытается надеть на него рубашку. Грудь была замотана широкой повязкой из бинтов, сквозь которые почти не проступал ярко-красный цвет крови. Однако процесс дыхания становился всё большей пыткой. Приходилось точно дозировать порции вдыхаемого воздуха. Любое излишнее количество приводило к ощущению присутствия раскаленного металла в правом легком.
— Получилось таки, — возбужденно твердил Берг.
Заметив, что Дмитрий очнулся, он снова повторил: «Получилось», кивая радостно и возбужденно. Он прикрыл Дмитрию рот, не дав сказать ни слова.
— Молчи. Говорить нельзя. Ты везучий, конечно, но легкое-то всё равно пробито. Это ж надо так! Тупая пуля из вальтера, а прошла насквозь, как будто автоматная. Точно между ребер.
Дмитрий приподнялся с дивана и начал пытаться помочь Бергу надеть на себя рубашку. Это привело к новым вспышкам боли, но он понял, что без этого всё равно не обойтись.
— Ты понимаешь, — бурчал Берг, — я подумал, раз он начал что-то изменять, то, может быть, в этот момент будущее станет не столь уж определенным. Может стоит попробовать изменить его самостоятельно? Я же видел, что тебя должны убить в подъезде, как только ты выйдешь. Я решил влезть в это дело самым решительным образом. И мне это удалось, как видишь. Только сейчас тебе надо уходить.
— Погоди, — прошептал Дмитрий, понимая, что громче лучше не высказываться, — может позвонить Рутману? С какой радости его человек…
— Да при чем тут он?! Тебе что не ясно, откуда что взялось? Лучшее, что ты сейчас можешь сделать – мотать отсюда как можно быстрее.
— А как же ты?
— Ничего. Как-нибудь выкручусь.
— Не собираюсь я тебя здесь оставлять.
— От тебя сейчас гораздо больше вреда, чем пользы. Убирайся, скоро здесь будет толпа. Мотай из города, подальше от этого места. Тем трудней будет повлиять на тебя. Потом свяжись со своими друзьями. Пускай помогут тебе найти убежище где-нибудь на природе.
— Поехали со мной.
— Ну уж нет!
— Я не смогу вести машину.
— Сможешь. Выметайся!
Берг обхватил Дмитрия подмышки и поднял на ноги. Того тут же замутило. Боль внутри распространилась на весь правый бок. Любое движение правой рукой приносило новые болевые спазмы. Но самым трудным было, конечно, привыкнуть почти не дышать.
— Твое счастье, что крови мало потерял, — промолвил Берг, — да и вообще… Просто твое счастье – это твое счастье.
Берг помог Дмитрию дойти до двери и около самого выхода сказал, словно бы с напутствием:
— Запомни — не поддавайся случайностям! Случайности – его ипостась. С их помощью он поворачивает будущее в нужную ему сторону. Старайся как можно больше совершать осмысленных поступков. Твое оружие – твоя собственная воля. Теперь, наконец, мы с тобой, зная о его замыслах, получили возможность самостоятельно решить свою судьбу. Для нас будущее перестало быть определенным. Действуй сам – и получишь шанс.
«В моем состоянии совет что надо!» – подумал Дмитрий, морщась от боли.
В подъезде он, шатаясь от ужасной слабости, кое-как одолел два этажа. С трудом перешагнул через мертвое тело. Кровь из многочисленных ран неудавшегося убийцы залила почти весь пол на площадке. Оставляя за собой багровые следы, Дмитрий как в тумане прошел мимо жильцов, замерших испуганной группкой у своих квартир, вывалился во двор и заполз в «Опель», благодаря судьбу за то, что не закрыл дверцу машины.
Опыт езды в пьяном виде очень помог Дмитрию, когда ему удалось завести машины и вырулить со двора. Он ухватился за самый нижний край рулевого колеса, потому что поднять руку выше мешала боль, и таким манером, снизу, поворачивал в многочисленных переулочках Центра, пока не выкатился на Садовое кольцо. Плохо соображая, что делает, Дмитрий свернул с него на первую попавшуюся широкую улицу, показавшуюся ему знакомой. Ему было всё равно куда свернуть, лишь бы дорога уводила его из Москвы. Он не слишком-то удивился, когда обнаружил, что едет по проспекту Мира. В этот момент он вспомнил совет Берга, но ничего поделать уже не мог.
Москва мелькала в окнах слева и справа цветным потоком вывесок, рекламных плакатов, текла навстречу волной автомобилей, запрудивших проспект в эти дневные часы. Дмитрию снова казалась, что он никуда не едет, что он просто сидит сейчас у себя дома, увлеченный сеансом видения, и уже скоро должен быть результат. Какой? Неважно. Главное – он будет. Снова он увидит что-то новое, какой-то фрагмент… Пусть незначительный, пусть мимолетный, но такой желанный! Скоро движение замедлится, краски перестанут сливаться в общую калейдоскопическую массу, четкие детали грядущей действительности выступят со всех сторон…
Какой-то резкий звук вывел Дмитрия из забытья. Сзади дружным хором сигналила многочисленная шоферская братия. Он стоял на перекрестке перед светофором, светофор дружелюбно сиял зеленым, приглашая к движению. Дмитрий почувствовал, как на лбу выступила испарина. Только теперь он начал проникаться мыслью о том, что теперь и он, как и все остальные люди, беззащитен перед лицом будущего. Теперь он тоже лишен былой защиты собственного дара. Он уже давно, еще в детстве, забыл о том, что такое страх внезапной смерти. Он потерял спасительное забвение обычных людей, привыкших закрывать глаза на собственную беззащитность, привыкших не думать о том, что может случиться с ними в любой последующий момент. Каким-то чудом он умудрился минуту назад остановиться перед этим светофором, и только потом сознание полностью оставило его. А что было бы, если это случилось минутой раньше?
Дмитрий тронулся с места, не обращая внимания на гневные жесты из-за стекол обгонявших его машин, думая теперь только о том, что ему говорил Берг, пытаясь сосредоточиться и контролировать свои действия насколько можно осмысленней. Он снизил скорость, перестроился правее и уже не обращая внимания на боль, уцепился за руль, как за спасательную соломинку.
Так он постепенно и выкатил с проспекта Мира, сначала на Ярославское шоссе, а потом и за пределы Москвы, мучаясь от боли, полыхавшей огнем у него в груди, и от страха, сковывающего его мозг своим ледяным дыханием. Это была обратная сторона. Дмитрий так устал от предсказуемости, так желал избавиться от нее, что вовсе выпустил из виду, что будущее может внушать не только надежду. В основном люди привыкли его бояться. И забыть об этом мог лишь тот, кто отвык предвидеть, кто только видел.
На Ярославском было свободно, за окном проносились лесополосы, разрываемые широкими холмистыми равнинами подмосковного пейзажа, с разбросанными то тут, то там дачными постройками разной степени роскошности. Дмитрий увеличил скорость, слегка успокоившись. Похоже, он немного свыкся со своей новой ролью, почувствовал себя более уверенно, вспомнив о своем долгом, хоть и не слишком удачном опыте вождения. Придорожная полоска-ограждение превратилась в серую ленту, справа то и дело мелькали заправочные станции, расплодившиеся за последние годы, как грибы после дождя. Навстречу неслись ярко раскрашенные фуры. Москва поглощала их каждый день в огромном количестве, переваривая в своем огромном организме любые товары от кирпичей до детских игрушек. Магия движения вновь стала захватывать Дмитрия, вовлекая в погоню за ощущением потери себя в скорости. Его «Опель» опять двигался в левом ряду, наматывая на колеса километры недавно подновленного покрытия шоссе.
День стоял прекрасный. Солнце мягко проливалось сквозь разрывы белоснежных облаков, приготовившийся к осени августовский лес был слегка разбавлен оттенками желтого. Воздух, прорывающийся через щель приоткрытого окна, был прозрачен и свеж, наполненный терпким грибным запахом. Всё кругом блаженно взирало на ярких металлических жуков, проносящихся по гладкой ленте дороги неведомо куда. Сегодня Дмитрий на удивление четко мог ощутить окружающее сквозь стекла автомобиля, не смотря на то, что чувство скорости не пропадало, а только усиливалось. Как будто мир перед его глазами выглядел отмытым от прежних рамок видения, обретшим собственную жизнь, подчиненную воле случая и непредсказуемую, как любая жизнь.
Дмитрий вдруг подумал, о том, а что если Берг ошибся. Могло ли быть так, что они оба поддались магии совпадений? Что если никакого Иерофанта и не существует, что есть только воля случая и общие законы? Наверное, не следовало бы всё же так сразу делать выводы.
«Всё должно обойтись», — подумал Дмитрий, вспоминая хмурое лицо Берга, с которым он смотрел на странные книги.
Слева промелькнул огромный металлический указатель — «Московская область». Сразу за ним, как по волшебству шоссе сузилось вдвое, к тому же потеряв качество покрытия. Легко умещавшиеся на трех полосах автомобили, втиснутые в полторы полосы, сразу сгрудились в плотную вереницу. Сужение произошло так внезапно, что Дмитрий, занятый своими мыслями, заметил это уже тогда, когда сбрасывать скорость было поздно. Он увидел перед собой стремительно приближающийся багажник «десятки», крутанул руль влево, в попытке объехать ее по разделительной. На встречной оказался ЗИЛ, обходящий рейсовый автобус, он ударил «Опелю» в самый край бампера и чиркнул дальше по борту, промчавшись мимо грохочущей массой. «Опель» закрутило вокруг своей оси, окружающее в один миг смазалось цветным полушарием, не давая ни секунды на то, чтобы хоть что-то предпринять. Дмитрий понял только, что машина ударилась обо что-то еще несколько раз. Потом он увидел, что его несет всё еще по разделительной полосе как-то странно полубоком, всё более заворачивая на встречную. Он изо всех сил ударил по тормозам, инер-ция положила его на руль. В этот момент передний бампер слетел с креплений, ударив прямо в лобовое стекло и превратив его в мелкую паутину трещин, скрежетнул о крышу и заскакал где-то сзади. Дмитрий беспомощно крутанул рулевое колесо, не видя более ничего. «Опель» опрокинулся на правый бок и юзом покатился по асфальту, издавая страшный скрежет и треск лопающегося стекла. Инерция окончательно вынесла машину на встречную полосу. Высокий МАЗ, груженный лесом, налетел на него и смял как спичечный коробок, завершив цепь несчастливых совпадений.
Наверное, Дмитрий бы рассмеялся, скажи ему кто, что шофер, сидевший за рулем МАЗа был видящим. Но еще больший смех у него вызвал бы тот факт, что фамилия шофера была Селезнев.
Pinhead
2001-02.
ASBooks.
———————-
Так сделай мне ангела
И я подарю тебе твердь,
Покажи мне счастливых людей
И я покажу тебе смерть…
БГ.
С некоторых пор Алиса начала видеть ангелов.
Или это был один и тот же ангел – невозможно было разобрать. Они всегда были на одно лицо. Лицо это Алиса вряд ли когда-либо теперь забудет. Она могла точно перечислить все случаи, когда ангел появлялся перед ней. Или следовало в таких случаях говорить — являлся ей. Она не разбиралась в этом. Главное, что она его видела. Или их. Но не это было главное. Эти явления… или появления… изменили ее жизнь.
В первый раз Алиса увидела ангела в самой что ни на есть уютной, домашней обстановке. Хотя, кто же может сказать, какая обстановка есть подходящая для подобных явлений, а какая – нет.
Ее дорогие родители в очередной раз собрали гостей. Надо сказать, что родители Алисы очень любили принимать гостей, особенно тех, кого знали давно, с кем, можно сказать, дружили семьями, и встречи с которыми служили для них своеобразным мостиком в прошлые времена. Конечно, их возраст еще не позволял говорить о них, как о людях пожилых, но и юность их также прошла, безвозвратно и стремительно, как, собственно, проходит и всякая юность у любого прочего человека.
Следует еще заметить, что старые друзья Алисиных родителей были людьми необыкновенными и все, без исключения, интересными, каждый в своем роде. Алиса знала их с самого раннего детства и обожала их визиты не меньше собственных родителей, которые всегда загодя готовились к приему гостей, как правило, по тому или иному знаменательному поводу.
В тот раз они собрались для празднования дня рождения Алисиной мамы, что было особенно приятно и торжественно. Они расположились в большой гостиной, уже после того, как все подарки были подарены, цветы расставлены в многочисленные вазы, торжественный ужин съеден, когда остается только одно – пить чай и разговаривать. Народу собралось много, все сидели, кто за столом, кто на диване, кто в креслах. Один из старых папиных друзей даже (о, ужас!) курил трубку, пристроившись в углу подальше от остальных. Голубоватый дым медленно застилал дальнюю часть комнаты, ту, что рядом с большим окном.
Алисина мама сидела за столом, оживленно беседуя с гостями. Они шутили и смеялись, и Алиса тоже смеялась вместе со всеми. Может быть, именно поэтому она и обратила внимание на человека, сидевшего чуть поодаль от стола, не принимавшего участия в общем веселье. Он не выглядел печальным, но и к смеху, казалось, тоже был равнодушен. И еще, несмотря на разношерстность последних мод, его светлое одеяние странно выделялась на фоне других одежд. Когда Алиса стала присматриваться, то обнаружила в высшей степени странную вещь. То, что она принимала за длинные полы балахона, являлось ни чем иным, как самыми настоящими крыльями. Они виднелись сзади странного гостя, между ножками стула, на котором он сидел, касаясь пола длинными широкими кончиками перьев.
Больше Алиса не могла оторвать от незнакомца взгляда. Хотя ее и учили не глазеть на людей, она ничего не могла с собой поделать. Но не крылья были тому виной. Его лицо – вот что являлось настоящим магнитом, не дававшим Алисе отвести взгляд. Иссиня-черные, как вороново крыло, гладкие волосы симметричными волнами спускались к плечам, наполовину скрывая высокий, белоснежный лоб. Большие, угольного цвета глаза смотрели спокойно, абсолютно не мигая. Не смотря на то, что создавалось ощущение, что в них вовсе нет зрачков, глаза эти, казалось, светились разумом необыкновенным, не доступным обычному пониманию. Они завораживали совершенно, привлекая каким-то особым, почти ностальгическим желанием вглядеться в них еще и еще тщательней. Идеальной формы прямой нос спускался к пунцовым губам, производящим противоречивое впечатление мягкости и твердости одновременно. Округлый подбородок и ровные линии слегка выдающихся скул дополняли впечатление полной идеальности, какого-то бесполого абсолюта, едва ли не скульптурности.
В груди Алисы стала подниматься волна странного чувства, не зная названия которого, она определила его как благодарность, смешанную с удивлением. Раньше ничего подобного ей не приходилось испытывать. Верующие люди назвали бы этот благоговением. Вместе с тем, в самой глубине души Алисе было жутковато. Что-то указывало ей на собственную малость, крошечность по сравнению с тем, с чем она столкнулась. Как будто в первый раз в жизни она усомнилась во всесилии разума. По крайней мере, человеческого.
Однако ж анализ всего этого пришел к ней позднее. В тот же момент она просто смотрела, и даже не делала попыток подойти к незнакомцу или что-то у него спросить. Ей было достаточно глаз. Пока ее не отвлекли. Кто-то над ухом громко позвал ее.
«Алиса, Алиса, подойди, пожалуйста, сюда…»
Чей-то голос, он вывел ее из транса. Она отвела взгляд. И услышала звук, похожий на шорох огромных крыльев. Когда она вновь обернулась, то не обнаружила никого на том месте, где только что сидел этот странный гость. Она даже встала и подбежала к тому месту, словно в попытках найти какие-то следы… Их не было. Так, как будто за пару секунд незнакомец растворился в воздухе. Или… Или улетел.
Алиса повернулась к сидящей рядом матери.
«А как… как звали того гостя?..»
«Какого гостя?» – мать обратила к ней свое смеющееся лицо, и Алиса с ужасом подумала, что ВСЕ лица, по сравнению с ТЕМ лицом кажутся ей безобразными, даже лицо собственной матери.
«Того… Черноволосого».
По недоуменному взгляду матери она уже поняла, что не получит ответа, что она одна видела то, что видела.
«Какого черноволосого? Алиса, про кого ты говоришь?»
«Молодого», — покорно произнесла Алиса, и тут же поняла, что и понятия не имеет, молодой он был или нет.
«Алиса, мы все здесь молодые. Разве нет?»
«Да что ты, Кира, для нее мы уже старички, — раздался чей-то голос, — не забывай, сегодня твой очередной день рождения».
И рассмеялся.
Больше Алиса не могла ни говорить, ни слушать. Она выбежала из комнаты.
Тот, первый случай Алиса поначалу была склонна отнести на счет бокальчика шампанского, выпитого ею за здоровье мамы. Во второй же раз никаким шампанским и не пахло, на этот раз Алиса уже ни на шутку встревожилась.
Всё произошло как-то быстро и, главное, абсолютно буднично. В центре Москвы, на улице она вдруг услышала за спиной знакомый звук. Так, как будто огромная птица расправляла широкие крылья. Алиса молниеносно обернулась. И успела увидеть, как исчезает белый крылатый силуэт за углом здания.
Наверное, какое-то время Алиса напоминала прочно вкопанный в землю столб. Потому что ее мать выглядела весьма встревожено, когда взяла дочь за руку, в попытке привлечь внимание. Алиса долго всматривалась в ее озабоченное лицо с пролегшей глубокой складкой между бровями, пока, наконец, не поняла, где она и с кем.
Самое занятное, что Алиса ни на одну секунду не сомневалась в том, что с ее рассудком полный порядок. Она была так же точно в этом уверена, как и в том, что ангелов не существует. Но в тот раз она еще всё-таки махнула рукой на странные случаи и продолжила прерванную прогулку по магазинам.
Когда же это произошло в третий раз, Алиса больше уже не могла бездействовать.
Он появился в театре, во время демонстрации классического балета, в котором танцевала Алисина бабушка, прямо на сцене, стоя позади пары заглавных танцоров. Опять всё вышло неожиданно и незаметно. Алиса сидела между своих родителей, и отвлеклась всего на секунду, спросить отца о какой-то сюжетной перипетии. Он наклонился к ее уху, и Алиса отвернулась от сцены. Когда же она взглянула туда вновь, то увидела высокую белую фигуру, на фоне которой танцевали актеры. На этот раз его крылья наполовину приподнялись за спиной, и Алиса поразилась тому, какие они огромные. Его глаза горели огнем такой силы, что он, казалось, хочет испепелить весь зал. Ладони ангела были разведены, словно бы он размыкал их для будущих объятий. Губы Алисы сами собой приоткрылись, она заворожено глазела на явление, с головой, полностью очищенной от всяких мыслей, на этот или любой иной счет. Зато ее душа пела от восхищения! Казалось, всё Алисино существо пронизывает глубокий внутренний свет. Свет, рождавший необыкновенно сильную печаль. Эта-то печаль и была самым прекрасным из всех ощущений. Разве могла Алиса себе когда-нибудь вообразить, что печаль способна вызывать такое наслаждение?! Это длилось несколько минут, пока танцевали главные герои спектакля, и всё это время Алиса купалась в новых для себя эйфорических чувствах.
Когда грянули аплодисменты, они стали для Алисы чем-то звучащим настолько ужасно, дисгармонично, по сравнению с ее состоянием, что она невольно скривилась и с упреком бросила взгляд на зрительный зал. Обратив глаза к сцене вновь, Алиса поняла, что явление опять закончено, от ангела не осталось и следа.
Да, можно сказать, что Алиса на время теряла голову. Но кто рискнет заявить, что она теряла ее совсем? Нет, как только наваждение прошло, ее ум заработал с удвоенной энергией. Алиса стала искать.
Она искала в галактических справочниках, в Космонете, спрашивала у своих друзей и знакомых, связывалась даже с Галактическим Патрулем. Но нигде не нашла никаких следов о странных существах, очень похожих на людей, но с огромными крыльями при этом.
Приблизительно тогда, когда Алиса полностью отчаялась хоть что-то найти, она увидела ангела в четвертый раз. Вовсе при необычных обстоятельствах.
Они всей семьей поехали на выходные в Чехию. В местечко чуть западнее Праги. За короткий срок это место стало центром туристского паломничества.
Дело в том, что тамошние археологи полностью восстановили большую церковь, построенную в первой половине прошлого века Иржи Навелом. Четыре созданных им собора считаются шедеврами архитектуры, хотя до две тысячи восьмидесятого года про него никто и слыхом не слыхивал. Были только упоминания в документах. Его соборы простояли всего несколько лет, а затем сначала Вторая мировая война прошлась по ним, оставив одни только остовы, а потом пришедшие к власти коммунисты довершили дело, предпочтя попросту взорвать обломки, вместо того, чтобы восстанавливать их в прежнем виде. Когда сотрудники Института Времени сделали в прошлом первые снимки соборов и показали их знатокам архитектуры, те только развели руками от изумления и восхищения. И в один голос сказали: «Надо восстанавливать!»
Алисин знакомый ангел взирал на нее с огромной фронтальной фрески треугольной формы, его лицо занимало почти всё изображение, черные волосы разметались вокруг головы, как при сильном ветре, а губы были сдвинуты в плотную линию, словно бы он выражал то ли неодобрение, то ли сосредоточенность. Во всем же остальном лицо отражало такую же бесстрастность, что и в жизни. Замечательность изображенного лица бросалась в глаза каждому, кто останавливался перед фреской, несмотря даже на то, что это была всего лишь копия с оригинала
Портрет просто сразил Алису наповал. Конечно, она никак не ожидала встретить здесь ничего подобного. Она была бы меньше удивлена, если б увидела вновь самого ангела. Теперь она не знала, что и думать, терялась в догадках и вообще чувствовала себя последней дурочкой. А эта роль ей нравилась меньше всего в жизни. Робот-экскурсовод сообщил ей, что портрет – работа самого Навела, который иногда принимал участие в росписях. Продолжая пытать робота, Алиса узнала, что от Навела сохранились некоторые дневники, сбереженные его семьей. Еще сидя в гостинице, Алиса засела за их изучение.
Ей пришлось изрядно помучиться, потому как дневники были написаны путано и несвязно. Художник, скорее, записывал ощущения, нежели события, и понять, какие слова относились к какому конкретно действию было трудно. К тому же Навел явно был не совсем здоровым человеком. В том числе и психически. Он постоянно упоминал о каких-то видениях, сопутствующих ему в процессе творчества. Вымышленные имена перемешались с именами соседей и друзей. Только сопоставляя даты в дневнике с известными ей сроками постройки храма под Прагой, Алиса смогла понять, какие фрагменты относятся именно к этой части работы.
Про треугольную фреску было написано всего несколько слов.
«Азраил опять посетил меня. Говорит ли это о том, что я достаточно чист, или просто будут последствия? Этот вопрос не перестает меня мучить. Во мне нет смирения, но раньше он появлялся и просто так. Стыдно об этом думать, но я всегда счастлив, когда его вижу…
По-моему, я уже созрел, чтобы сделать то, что я хотел так давно сделать. Завтра я начну его писать. Если у меня что-то получится, это будет подтверждением того, что я достаточно чист. Пусть так и будет».
Алиса почти ничего не поняла, но, по крайней мере, она теперь знала, что Навел называл ангела Азраилом. Она вернулась к началу и принялась штудировать дневники в поисках этого имени, чтобы узнать всё, что видел художник, и что он обо всём этом думал. Поиски оказались не такой уж легкой задачей, и процесс растянулся у Алисы на целую неделю. Она так и не успела толком понять то, о чем поведал Навел своему дневнику. Ангел явился перед Алисой в пятый раз, в тот самый день, который изменил ее жизнь. В тот день она всё поняла без чужой помощи.
Мама Алисы умерла утром в субботу. Будничность происшедшего напоминало огромный знак вопроса, повисший в голове недоуменным возгласом.
Отца вызвали в Космозо по какому-то срочному делу. Он уехал в восемь утра, когда все еще спали. А в половину одиннадцатого непривычно долго спящую Алису разбудил видеофон. Она едва-едва продрала глаза, непроизвольно быстро прикрыла ладошкой сладкую зевоту и выскочила одним прыжком с гравитационного матраса прямо в коридор. Солнце, пробравшись в квартиру из кухонных окон, нарисовало на стенах коридора желтые квадратики.
В видеофоне оказалось лицо главного архитектора Луны. Он улыбнулся, глядя на заспанную физиономию, моргающую на него с другой стороны экрана, извинился за ранний звонок и попросил позвать Алисину маму.
— Минутку, — мяукнула Алиса и отправилась в обратный путь по коридору.
Когда она приоткрыла дверь в комнату родителей, то сначала не поняла, что происходит. Из ярко освещенного майским солнцем коридора трудно было что-то увидеть в комнате с притушенными окнами. Она хотела уже позвать мать, когда вдруг разглядела белую фигуру за изголовьем кровати.
Алиса ахнула от неожиданности и восхищения одновременная. Это был ангел, он стоял неестественно прямо, его руки были простерты над постелью, а крылья полностью распахнуты, едва помещаясь под потолком. Он пристально смотрел на Алису, не меняя положения, и только кончики его крыльев колыхались плавно и величественно. Алиса впервые видела эти белоснежные крылья во всей красе. Ее всю трясло от переполнявших чувств. Картина была такой прекрасной, настолько обильно переполняла душу, что становилось жутко от подобных сильных эмоций. Казалось, они могут разорвать изнутри.
Алиса стояла в дверях, не в силах сдвинуться с места, с онемевшим ртом, когда ангел стал приближаться к ней величественной поступью, не складывая крыл, обратив ладони, словно для объятий. Алиса ухватилась за ручку двери, чувствуя, как ее покидают силы, и смотрела, смотрела, не имея ни желания, ни возможности отвести взгляд от этого чудесного зрелища. Когда его длинные светлые ладони коснулись ее плеч, Алиса уже теряла сознание. Его прикосновение было мягким, как лебяжий пух, но одновременно с этим Алиса почувствовала необыкновенный прилив сил. Он притянул ее к себе, она уткнулась лицом в белоснежную ткань его одежд, и вдруг ей неудержимо захотелось рыдать. Как будто он влил в нее новую порцию волшебной печали, такой же прекрасной, как и всегда. Алиса едва не захлебнулась слезами, когда они хлынули из глаз вроде бы без всякой причины. Она не понимала, почему плачет, но ее душа знала, что есть очень важная причина, что эти слезы не напрасны, они словно бы спасают ее от чего-то.
Ей показалось, что прошло много часов, прежде чем он разом прекратил ее слезы, отстранив от себя одним плавным, но решительным жестом. Она вновь смотрела в его бездонные глаза, не отражавшие ни одной эмоции, но фантастически пронзительные при этом. Он наклонился к ней, и ни одна прядь черных волос ни покинула своего места, продолжая обтекать лицо, идеальной волной ложась на плечи. Только тогда она решилась задать свой единственный вопрос:
— Ты… Азраил?
Он ничего не ответил, но, возможно, в его глазах она прочитала подтверждение. А, может, ей просто хотелось в это верить. Он возложил руку на ее голову, и жгучий поток любви обрушился на Алису, пронизывая ее сверху до низу, заполняя любую, даже самую отдаленную нишу ее души. Этот поток вымыл всю напряженность и подсознательный страх, присутствующие до этого маленькими островками в океане блаженства. Потом он просто подтолкнул ее к постели, на которой лежала только что умершая мать. Алиса приблизилась, всё еще не веря в это, но уже понимая, что ее только что посвятили во что-то невыразимо страшное и прекрасное одновременно. Ангел взял на себя большую часть того, что она должна была пережить в последующие месяцы. Перед умственным взором Алисы пробежали строчки Иржи Навела, теперь до нее стал доходить смысл. Только самым чистым людям доступно видеть ангелов. А какой из ангелов появляется чаще всех других? Ангел смерти! Именно он сопровождает нас всю нашу жизнь, забирая окружающих людей. Кровоизлияние матери не было случайным. Ангел знал о нем и подходил всё ближе, чтобы в нужный момент быть рядом. И вот он пришел, теперь уже не просто как свидетель.
Алиса вдруг поняла, что ей выпала та же участь, что и чешскому архитектору. Теперь она всю жизнь будет видеть вокруг себя появления ангела смерти. И каждый раз это будет означать только одно. Кто-то умрет. Всю жизнь ей предстоит жить между восторженным ожиданием его прихода и ужасом от последствий этого прихода. Она обернулась, чтобы крикнуть, что она отказывается от этого странного дара, что она не желает нести на себе такое бремя, она не готова, она не выдержит. Но вновь опоздала. Она поняла это, как только услышала знакомый звук трепета огромных крыльев. Когда она обернулась, ее кричащего лица коснулось лишь дуновение, да и то, настолько легкое, что впору было счесть его следом взлета маленькой бабочки. Она хотела заплакать, но он забрал с собой и ее слезы. Осталась только печаль и страсть от предвкушения новых визитов.
Pinhead.
ASBooks.
2002.
———————-
Он не помнил, давно ли в город пришла вечная зима. Он знал только время, когда она была в городе и никакого другого. Снег не падал на город, и снег никогда не таял. Он просто лежал на домах, на улицах, укрыв тротуары и мостовые плотным белым покрывалом, только кое-где отдавая серым, будто засыпанный многовековой пылью. Снег не хрустел под подошвами, он просто уминался, как вата, словно бы стараясь не нарушать жуткой тишины города. Серые коробки зданий темнели оконными проемами, в которых никогда не зажигали свет. За мутными стеклами не было видно никакого движения, никогда не колыхались редкие занавески. Даже собачий лай не звучал над городом, хранящим траурное молчание в объятьях вечной зимы. Серое небо, всегда затянутое бесконечной пеленой туч, висело так низко, что захоти он достать до него рукой, наверное, смог бы, если б взобрался на плоскую крышу своего дома. Но у него никогда не возникало желания попробовать. Желания уже давно его покинули. Ему чудилось, что это сделал сам город. Он убил его чувства, растворил в своей вечной тишине, лишил даже возможности вспомнить об ушедшем. О городе он, казалось бы, знал всё – город как будто непрерывно стоял перед глазами: его неширокие улицы, дома, не поднимавшиеся выше пятого этажа, пустые площади, продуваемые пронизывающим ветром, поднимавшим в воздух легкие струйки снежного порошка. Но как только ему стоило попытаться вспомнить что-то подробнее, память отказывалась подчиняться, уходила в сторону, сворачивая на мелкие детали его однообразной жизни. Иногда он со страхом думал, что не найдет дорогу домой, если свернет за ближайший угол своей улицы. Ведь город был так похож сам на себя. При мысли о потере собственного дома его вдруг охватывало такое предчувствие ужасной беды, что он весь начинал мелко дрожать. Поэтому он предпочитал переводить свои размышления на что-то более безопасное. Мысли текли так вяло, что почти не имели никакого значения. Они составляли свой собственный круговорот, катаясь по раз навсегда заданному маршруту, напоминая бесконечную цепь, всё время перевешивающую саму себя. Так, будто бы он изобрел вечный двигатель.
Похожей цепью были и его занятия, одни и те же изо дня в день, по установленному когда-то распорядку. Когда-то настолько давно, что он уже не мог вспомнить — сам ли он установил этот распорядок, или что-то вынудило его вести себя так.
Он вставал со смятой постели, как только рассвет начинал брезжить в окнах, не в силах дольше оставаться в ней, с мыслью о необходимости продолжить свой ежедневный труд. Эта мысль каждое новое утро вынуждала его подниматься, настойчиво зудя ему о том, что он должен делать то, что делает изо дня в день, не прекращая работы, потому что кроме него ее никто не в силах сделать.
«Они просто не понимают, — говорил он себе, — они не могут тебе помочь, потому что не знают о необходимости этой работы. Иначе они бы обязательно помогли». Он уже не помнил, кто они, он не помнил, отчего они не понимают, и он боялся, что может не вспомнить даже, что же он будет делать, когда закончит работу. Он просто вставал, вдевал ноги в истоптанные меховые сапоги, накидывал на себя серое длинное пальто и выходил на порог дома, всякий раз обнаруживая всё тот же свой маленький дворик, огороженный низкой металлической оградой, покрашенной в черный цвет. По той же самой тропинке между сугробами он проходил к калитке и открывал почтовый ящик. Ящик всегда был пустым, но ему снова и снова хотелось думать, что нельзя пропустить эту ежедневную процедуру. Когда-нибудь письмо может придти, а он, раз пропустив, не проверив почту, уже никогда больше не станет этого делать. Он не знал, от кого может придти письмо, не мог вспомнить никого, кто мог бы писать ему. Ему просто не приходило в голову думать об этом. Он знал лишь, что это было одним из действий, держащих его на плаву.
Потом он долго стоял, взявшись за прутья калитки, и смотрел на пустую улицу, на серые силуэты домов напротив, на голые деревья с редкими сучьями, на столбы, покрытые облезшей краской, с фонарями, которые никогда не горели. Он никого не ждал, он не думал о том, чтобы дождаться кого-то, кто пойдет по этой улочке в городе, накрытом вечной зимой. Наверное, что-то в нем знало, что это бесполезно. Но было и еще что-то, не дававшее покоя, заставлявшее снова и снова смотреть на угол улицы. Просто смотреть, без надежды, без ожидания. Тропинки на тротуарах были всегда теми же тропинками, оставались не тронутыми с тех пор, как кто-то когда-то очень давно протоптал их, но и не заметались порывами ледяного ветра.
Он в который раз думал, что надо бы навестить соседей или пройтись немного прогуляться, отвлечься от своего дела. Всякий раз он планировал это, всякий раз предполагал, что завтра, наконец, сделает то, что рассчитывал. Но приходило завтра, и он откладывал снова, словно бы понимая, что это никогда никуда от него не уйдет. Он жил в городе, который не изменялся. У него всегда была такая возможность. И было, однако ж, еще кое-что, не дававшее ему отправиться в путь. Когда-то однажды он всё-таки попытался… Он открыл калитку и шагнул на мерзлую корку, покрывшую мостовую. Но потом вернулся. Что-то не позволило ему пойти дальше. Что-то, похожее на долг и на чувство стыда одновременно. На краткий миг ему показалось, что он вспомнил что-то… Далекое… За гранью города, за гранью его теперешней жизни. Как крошечный луч, пробившийся сквозь толщу серых снежных облаков. Но потом всё исчезло, и ему почему-то подумалось, что так оно и должно быть.
Он отворачивался от калитки и шел обратно, скользя по тропинке. Как-то раз он поскользнулся и, падая, угодил пятерней в сугроб. След его пятерни так и оставался с тех пор отчетливо виден, словно это сам город вновь и вновь приветствовал его, давая понять, что любые изменения отпечатываются здесь навечно.
Он обстукивал сапоги перед дверью, скорее, машинальным, нежели осмысленным движением, потому что снег никогда не лип к подошвам, открывал входную дверь и прикрывал ее насколько можно тише. В городе не принято было производить шум. Ветер господствовал в этом царстве тишины, только ему было позволено нарушать ее своими унылыми напевами.
Он оставлял пальто и сапоги в крохотной прихожей, проходил к столу и усаживался на стул с высокой прямой спинкой. Какое-то время он просто сидел, положив руки на колени, как будто бы собираясь с мыслями. На самом деле в его голове не было ни одной мысли о предстоящей работе. Они снова и снова ползли круговоротом по привычно заведенной окружности. Каждый раз ему становилось боязно, что однажды он не вспомнит, для чего сел за этот обшарпанный стол. Но взгляд его падал на огромную фотографию, висевшую на стене, и это вновь и вновь подталкивало его продолжить когда-то начатое. Фотография была единственным ярким пятном во всей большой полупустой комнате, обклеенной полностью выцветшими обоями.
Он медленно начинал перекладывать ближе к себе листы посеревшей от времени бумаги, сдвигая в сторону исписанные накануне, открывал книгу в том месте, на котором остановился вчера, и долго перечитывал очередное предложение, которое предстояло переписать. Сначала смысл никак не хотел доходить до него, слова повисали в голове, не означая ничего, просто произнесенные и оставленные без всякого значения. Потом некоторые из них начинали приобретать связь с другими, и постепенно смысл предложения проникал в его мозг. Тогда он брал со стола дешевую шариковую ручку и начинал писать. Всякий раз пальцы сопротивлялись попыткам заставить их делать работу. Первые несколько слов всегда выходили очень коряво. Но предложение за предложением возникали на бумаге, и он писал всё спокойней и быстрее. Внутри него даже появлялась улыбка от удовлетворения правильно и хорошо делаемой работой. Рука скользила по бумаге, взгляд по знакомым строчкам, и гора страниц слева росла, медленно приобретая вид очередной стопки. Если книга заканчивалась, он размеренными движениями брал в руки стопку исписанных листов, обстукивал ее со всех сторон и откладывал на край стола. Потом он брал следующую книгу, новый лист и продолжал работу.
Он работал весь день, не прерываясь, пока ранние сумерки не вползали в окна, сгущая темную пелену над бумажными листами. Всё время, пока он писал, в его голове звучал только волшебный текст и более ничего. Как будто этот текст в эти моменты и был его душой, его мыслями, поддерживая в нем сознание. С приходом сумерек работа постепенно замедлялась, словно темнота ослабляла действие книг, постепенно сводя его на нет. Пока он, наконец, не откладывал ручку и снова не откидывался на спинку стула, медленно переходя из одного состояния в другое, в привычное, естественное состояние ежедневного круговорота. Он снова смотрел на фотографию, уже с трудом различая ее очертания. Как будто это было его наградой. На самом деле он всю свою работу воспринимал, как награду, словно ему дали некую возможность сделать что-то действительно нужное, в отличие от всех других, которые вынуждены были… Впрочем… Он никогда не задумывался о других. Они были, и более не стоило рассуждать. Он знал, что не стоило, но уже не помнил – почему.
Иногда, когда он полностью заканчивал переписывать очередную книгу, он вставал, бережно брал стопку листов в руки и словно ребенка нес постепенно вновь огрубевавшими пальцами в другую комнату. Дверь всегда была прикрыта, он осторожно распахивал ее и входил туда, всякий раз радуясь этим визитам. В комнате трудно было что-либо разглядеть, в ней не было окон, и скромный свет, заползавший через открытую дверь, позволял увидеть лишь только одно. Высокие, до самого потолка, стопки бумажных листов, исписанные его неровным почерком. Они возвышались, подобно многочисленным монументам, утверждая величие его дела, всякий раз являясь живым подтверждением нужности его работы, радуя взгляд своим бесчисленным количеством. Он укладывал очередную толику своего труда в новый бумажный обелиск и потом еще долго смотрел на высокие белые столбы, уходящие в темноту комнаты. В его душе шевелились приятные чувства гордости за величие своего дела, за то, что это он, именно он, создал такой огромный объем текста, воздействующего на него столь волшебно. Он знал, что придет день, и он поделится своей работой. Поделится со всеми жителями города. Чтобы у каждого была частичка того чуда, которая есть у него. Он не знал, сколько дней еще продлится его работа, прежде чем этот день придет, и ему было всё равно. Сколько бы их не было, не имело значения в этом городе вечного покоя, вечной зимы. Он сожалел лишь об одном. О том, что не умеет рисовать. Тогда бы он смог подарить каждому еще и ту чудесную фотографию, висевшую на его стене.
Он возвращался в комнату, где он жил, уже с трудом различая что-нибудь в сгустившейся тьме. Вечер в городе приходил быстро и еще быстрее превращался в ночь. Он снова ложился на смятую постель, морщась от разрывавших звенящую тишину скрипов кровати, и замирал с открытыми глазами, погружаясь полностью в атмосферу города, растворяясь в ней, наконец, ощущая себя частью его, умиротворенный и тоскующий одновременно. Он снова, из ночи в ночь пытался заставить себя уснуть, пытался вспомнить, как это делается, вновь и вновь закрывая глаза, но без всякого результата. Он по-прежнему слышал свои мысли, бубнящие одну и ту же унылую круговерть, опять вспоминал фотографию девочки на стене, думал о том, что завтра сделает, возможно, еще что-нибудь кроме работы. Он долго ворочался, безуспешно пытаясь получше устроиться на неудобной постели. Время ночи текло медленно, как тягучее черное желе, порой делая невыносимой пытку бессмысленного, бездеятельного лежания. Только ветер вносил хоть какое-то разнообразие. Каждую ночь в одно и то же время ветер усиливал свои порывы, начиная напевать нудную песню. Ему она казалась лучшей музыкой, потому что вносила хоть что-то в черноту ночного города. Хоть какую-то разницу между сознанием и небытием. В эти часы он начинал медленно примиряться с городом. Город не казался уже ему давящим и угрюмым. Что-то родное появлялось в его смазанных чертах, что-то, напоминающее его собственный дом. Убогий и серый, но привлекательный одним только фактом принадлежности к нему. Город, до этого словно стоящий спиной, теперь как будто протягивал свои объятия. Отталкивающие, но такие родные.
Так проходили его ночи. В постоянном колеблющемся ощущении приближения и удаления от города, от бытия, от себя самого. Он никогда не уставал днем, занимаясь работой, но ночь выматывала все его силы, заставляя встречать рассвет, как избавление, как возможность начать делать хоть что-то, пусть даже то же самое, что и вчера.
Он давно уже не помнил и не осознавал, что он делает в этом городе, держась на остатках ощущения необходимости действий. Книги держали его крепче, чем сам город. Книги и фотография той, которую он любил когда-то, в незапамятное время, хотя он даже этого уже не понимал. Даже придя однажды сюда из мира, в котором он жил, в котором все мы живем, он не смог оставить то, что любил больше всего на свете, повиснув между теми, кто живет, и теми, кто навсегда ушел в занесенный вечной зимой город, простершийся вокруг него на вечные, вечные времена, раскинувшись нескончаемыми рядами серых домов, пустынных улиц и площадей. Город, где не жили покинувшие этот мир, растворенные в его постоянном покое, не тревожимые ничем в своих последних жилищах. Город мертвых. Единственный живой его обитатель. Пускай эта жизнь была иллюзорной, колышашейся над небытием, подобно пламени догорающей свечи, но она существовала. Существовала благодаря волшебному имени, живущему в его сердце, теплящемуся на грани жизни и смерти, дарящему возможность сопротивляться сковывающему холоду и соблазнительному покою вечного города.
Бесконечная череда дней разгоралась и угасала, проходя мимо него, но не меняя его убежденности продолжать начатую работу и его желания повторять любимое имя каждый раз, когда его взгляд падал на фотографию. «Алиса» — произносила его память, единственное, что его память сохранила из его жизни, единственное, что пережило бесконечную череду дней в городе мертвых. И это слово, всего только маленькое слово – пять букв – давало ему силы оставаться ЖИВЫМ.
Pinhead.
ASBooks.
2002
———————-